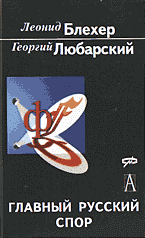Изучая историю спора, мы, пожалуй, должны считать ее с Чаадаева, с начала XIX века. Можно начать и с более раннего момента: западников вести с Котошихина, а почвенников с Квирина Кульмана, который в 1689 году явился в Москву с проповедью неминуемой гибели греховной Европы и возвещением грядущего «Иезуилитского царства», которое произрастет из северного царства московитов. Чем-то эти идеи Кульмана не глянулись протестантской общине в Москве, властям поступил донос, и Кульман с товарищем были сожжены за ересь (нечастый случай аутодафе в России). Однако такое углубление в историю добавляет детали, но не вносит ясности.
Чуть более отчетливо выделяются интересующие нас группы, если рассмотреть историю российского масонства. В масонстве XVIII века можно выделить рационалистические либеральные организации, связанные с так называемым «елагинским масонством», которые были довольно близки к некоторым течениям «вольтерьянства». Это направление российского масонства связано преимущественно с Петербургом. С другой стороны, существовало «консервативное», мистическое, «розенкрейцеровское » масонство, группировавшееся вокруг кружка Новикова в Москве. «Петербургское» «елагинское» масонство имеет некоторое отношение к идейной эволюции западничества. Розенкрейцеровский кружок Новикова также имеет отношение к идейной эволюции будущего славянофильства, но — не только идейное. К кругу, находящемуся под влиянием Новикова, имеют отношение по крайней мере Иван Киреевский и Аполлон Григорьев («масонство приводит к генезису славянофильства» — Вернадский, 2001, с. 502).
Нас может заинтересовать не только это генеалогическое возведение противоборствующих лагерей русской мысли к двум течениям российского масонства. В конце концов, у любого явления есть корни, и мы можем продолжить спор XIX века в российское масонство XVIII-гo или протянуть линии до Владимира Красно Солнышко. Однако есть и иной аспект, в котором именно масонский этап предыстории столкновения мировоззрений нам небезынтересен. Тогда, в конце XVIII века, в московских ложах родились два понятия, имеющих очень трудную историю. Товарищ Новикова по ложе Злато-Розового Креста, Иоганн Георг Шварц, впервые употребил понятие «интеллигенция » в его современном значении и отнес к интеллигенции дворянство. Как отмечают Биржакова с соавторами (Биржакова, Войкова, Кутина, 1972), само слово «интеллигенция » появилось вместе с множеством петровских неологизмов, но употреблялось в различных других смыслах. Первое употребление отмечено в 1711 году для перевода французского intelligence — сношение, заговор. Итак, в результате просветительской работы Шварца и Новикова дворянство стало «примерять» к себе новое слово, многие занялись «внутренним духовным ростом», и понятие стало одеваться в плоть.
Мы находим, что самый старый спор русской мысли тесно связан в своем генезисе с развитием понятия «интеллигенция » и самого общественного слоя интеллигентов. Но и это еще не все. Другое понятие, родившееся в связи с масонством во плоти, в реальности, также очень занимательно. Мы можем охарактеризовать это третье понятие словами В.О. Ключевского:
Сквозь вызванную ею /деятельностью Новикова>— Л.Б., Г.А./ усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это — общественное мнение. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому Новиковскому десятилетию (1779-1789) (Ключевский, 1913, с. 279).
Тем самым почти одновременно, в немногие десятилетия конца XVIII-начала XIX веков, появились в России интеллигенция, общественное мнение и спор западников со славянофилами, произрастающие из одного общего корня. Это высказывание не имеет цели отстаивать положение, что все эти дары и беды русской истории идут из масонства. Можно отыскать и другие корни. Важно подчеркнуть момент совпадения в самом начале развития основополагающих феноменов российского общественного бытия и сознания. И когда мы занимаемся обсуждением спора западников и их противников, мы поневоле анализируем историю интеллигенции и изучаем развитие общественного мнения в России.
Первоначально важнейшая характеристика спора состояла в том, что это — осмысление проблем развития России частными лицами. Не министры-реформаторы и цари-прогрессисты, а обычные люди позволили себе судить — гласно и печатно — о целях, средствах, судьбах и грехах своей страны. И в этом смысле едины все они — принявшие и обидную кличку «славянофилы», и кличку «западники»: это люди, стоящие (или ставящие себя) вровень с задачами целого народа, государства, культуры. Более того, судьба России рассматривалась в свете задач человечества, мирового развития. Ойкумена тогда была еще невелика, и постановка проблемы: «Россия и Европа» — обнимала весь мир, который стоило принимать во внимание образованному сословию.
На смену первым участникам спора, современникам Чаадаева и Киреевского, Самарина, Аксакова, Герцена, впоследствии пришли иные фигуры — Достоевский, Леонтьев, Страхов, Данилевский. В их рассуждениях произошло определенное снижение идеи спора — Россия рассматривалась теперь как лидер славянских государств, как выразитель надежд славянского племени. К теме всемирной роли России примешались минутные политические задачи. И в этом возникшем перед взором младших славянофилов политическом мире было много черт, совсем для нас непривычных. В этом политическом мире роль России была очень велика. В то время Америка, вчерашняя колония, не привлекала внимания, как второсортный игрок; Азия была предметом раздела среди сильных. Россия занимала в том, отошедшем мире место современного Китая: огромная, быстро развивающаяся держава, с необозримыми ресурсами и населением — явный лидер завтрашнего дня. Европа отчетливо видела, что через сто лет Россия превзойдет любую из европейских стран, а может, и всю Европу в целом. Мир был покорен Европе, а над ее будущим нависла огромная Россия...
Да, многое изменилось.
«Младшие» славянофилы расширили тематику спора, добавили в него политический контекст — и тем самым в определенном смысле снизили и конкретизировали спор. «Центр диалога» смещался от проблем философии культуры к философии истории — и далее, к политике. И одновременно все ближе к «центру» разговора оказывались проблемы национального, проблемы сосуществования русского и других народов в России (в начале спора эта проблема почти не привлекала внимания диспутантов). Вл. Соловьев обличал подобные идеи, говоря о том, что национализм для страны есть то же, что эгоизм для личности. Однако и эта более политизированная, националистическая точка зрения на задачи России, которая стала доминировать в споре в конце XIX века, подразумевала некоторый мировой уровень решаемых ею задач.
В начале XX века спор в очередной раз обновился, в него вмешались марксисты и анархисты, вплелась философия серебряного века и русский космизм. Все новые точки зрения вовлекались в диалог, все шире становилась его тематика: рабочий вопрос, социальный вопрос, женский вопрос... С началом мировой войны мировоззренческие разногласия обострились, позиции проговаривались все четче. В это время выступили неославянофилы С. Булгаков и В. Эрн. У них родилась концепция «двух Европ»: «плохой» протестантской средней Европы и «хорошей» романской Европы, «романтической», в которой, по их мнению, происходило возрождение духа «старого католицизма », Средних веков... Эти авторы группировались вокруг издательства «Путь». Еще более почвенническую позицию, чем неославянофилы, заняли авторы «Логоса» — журнала по философии культуры, выходившего в 1920-х годах. Впрочем, подробное перечисление всех этапов спора и всех вовлеченных в него изданий не входит в нашу задачу — слишком уж объемная тема.
После революции 1917 года основные понятия, относительно которых шел спор, очень сильно изменились. Еще договаривали свои аргументы западники и славянофилы, а в их разговор вплетались темы, привнесенные евразийством 1920-30-х годов. Значительно уступая по широте охвата идеям старых славянофилов, эта концепция все же отводила России весьма значительное место в мире: Евразия, Океан против Континента, уподобление России империи Чингисидов...
В СССР подцензурная печать весьма слабо отражала извечный диалог, ведь не считать же полемику талантливого Твардовского и охранительного Кочетова продолжением спора прежних западников-прогрессистов и почвенников-охранителей? Но разговор западников и почвенников на деле не прекращался. В конце 1960-х годов возник Самиздат, а в начале 1970-х появился самиздатский журнал «Вече» — почвенный, националистический. Ему противостоял другой самиздатский журнал — «Поиски», который придерживался либерального, западнического направления (Даниэль, 1988, с. 111-129).
Затем была метель 1990-х годов, великий немой обрел право речи и попытался сказать все сразу. В одно длиннющее нескончаемое слово, заимствованное из агглютинативных языков Америки, слились монетаристы и «Память», рыночники и призывы к обновлению коммунизма, православие, диссидентство, новый монархизм... К 2000 году, примерно к началу тысячелетия, этот гомон притих — люди привыкли к тому, что говорить — можно, и, замолчав, занялись поисками хлеба насущного. И вот тогда, с окончанием выговаривания невыговоренного, когда мнения слегка определились, — тогда и произошел организованный ФОМом диалог либералов и почвенников на сайте «Дискурс».
Присматриваясь к тому новому, что отличает диалог 2000 года от дореволюционной дискуссии, мы прежде всего заметим, что нет более славянофилов. Как показали результаты нашего диалога, теперь такой круг мыслей уже не находит отклика, задачи объединения славянских племен вокруг России полагаются фантастическими и оцениваются как проявление имперского сознания. Даже «сниженная» (по Соловьеву), политизированная точка зрения поздних славянофилов оказывается нереалистичной. Сегодняшние защитники этого мировоззренческого полюса считают термин устаревшим и именуют себя «почвенниками ». На современном этапе почвенников — да и западников — волнует судьба только одной страны, причем интересуют не какие-то глобальные перспективы, а элементарное выживание, существование на хоть сколько-нибудь «приличном» уровне. Сама постановка таких задач многое говорит о том, как выглядит ныне самосознание России.
«Западники » пострадали меньше, они еще могут так именоваться, но все же обычно их называют «либералами ». Западная Европа перестала быть единственным в мире источником цивилизации, и название «западники» обесцветилось, стало понятным лишь знатокам истории старого спора.
Далее, существуют сомнения в самих маркерах дискуссии — западничестве и славянофильстве (почвенничестве). Разумеется, и на прежних этапах спора тот же Соловьев, например, совершал некую идейную эволюцию и переходил от почвенничества (работа «Три силы») к западничеству («Об упадке средневекового умосозерцания»). Однако это была эволюция на протяжении целой жизни, и это был Владимир Соловьев, одна из самых крупных фигур русской мысли на протяжении веков, а многие иные мыслители без колебаний записывались на ту или иную сторону в этом споре. Сейчас же, на современном этапе спора, в XXI веке, почти каждый участник дискуссии говорит, что он, собственно, и не западник, и не почвенник или что он очень, знаете ли, нетипичный западник, так что другие западники считают его почвенником, и т. д. Возможно, это говорит о том, что ситуация в России значительно изменилась и старые философские одежды уже не соответствуют тому, что в России выросло. Спор приобретает все новые измерения и философская «форма » двухсотлетней давности уже тесна... или слишком просторна? Короче, не по мерке.
Итак, умные и талантливые люди сейчас создают интересные, парадоксальные, сложные концепции развития мира. Однако все эти концепции можно назвать «тактическими ». Они решают, какими средствами достичь кем-то поставленных задач — благосостояния, мирного существования, слияния с Западом, приобщения к цивилизации и т. д., а также независимого развития и национального расцвета. Самих задач никто толком не ставил — они как-то есть сами собой. Стратегию никто не вырабатывал, предполагается, что она уже есть. Аргумент для этого с логической точки зрения совершенно ничтожный: раз коммунизм не оправдал себя, значит, остался только один путь. В этом суждении что ни слово, то ошибка — и тем не менее стратегией может называться, пожалуй, только это беспомощное суждение: беспомощное, ибо основанное на отрицании.
Однако множество тактик складывается и порождает стратегию, которой никто не предлагал, которая получается «сама собой». Нам надо подойти к описанию этой «стратегии без автора». Для этого постараемся по возможности четко описать логику того пространства смыслов, в котором происходит этот диалог.
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 6539
Другие книги
- Виктор Леонтович. История либерализма в России (1762-1914)
- Л.И. Блехер, Г.Ю. Любарский. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья
- А. А. Галкин, П. Ю. Рахшмир. Консерватизм в прошлом и настоящем
- Юрий Шевцов. Новая идеология: голодомор
- Игорь Панарин. СМИ, пропаганда и информационные войны
Редакция рекомендует
- Отмена лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" в декабре 1941 г.
- Россия и Болгария: между "войнами памяти" и поиском совместного прошлого
- Как преподают военную историю за рубежом?
- Рождественские постеры австралийской, британской, германской компартий
- Образ врага в советских исторических фильмах 1930-1940-х годов
- "Убей немца" в советской пропаганде