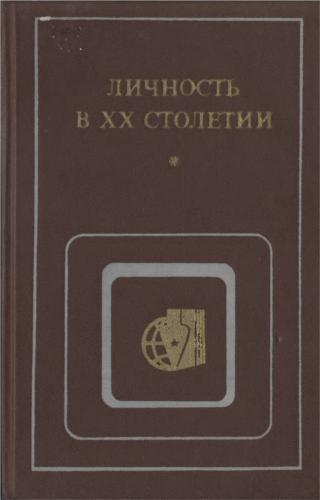Истинные ответы на вопросы, поставленные современной эпохой, дает искусство социалистического реализма.
М. Горький в романе «Мать» отразил революционный опыт русского пролетариата, в борьбе вырабатывавшего новые принципы отношения личности к истории как процессу. Зарождающееся искусство социалистического реализма открыло нового героя и утвердило революционную личность, ее включенность в общую борьбу, а также возможность и необходимость преобразования мира, Советское искусство уже в первые десятилетия своего существования продолжило горьковскую традицию и выдвинуло нового героя — социально-активную личность, участвующую в созидании истории.
Буржуазная критика не раз пыталась «атаковать» нового героя литературы, и главным аргументом против него служило обвинение в однозначности и односторонности: мол, Чапаев Д. Фурманова, Кожух А. Серафимовича— не объемные, не пластичные, не многогранные образы, а герои, которые являются всего лишь функцией истории и ее функционерами. Эти шаблонно-предвзятые обвинения несостоятельны, так как основываются на внеисторическом подходе к художественному процессу. Можно ли, например, обратившись к другой эпохе, упрекать великие творения Корнеля и Расина в том, что их герои эстетически однокрасочны, в них не раскрыта «диалектика души», не дан психологический анализ и т. д. Эти упреки били бы мимо цели, так как не учитывали бы исторически обусловленного художественного своеобразия искусства классицизма и накладывали бы закономерности и свойства более позднего этапа художественного процесса на другой, более ранний этап. Столь же несостоятельны в своей внеисторичности и нападки буржуазной критики на советское искусство первых десятилетий его существования. Нельзя понять сути этого искусства, если не осознать тот пафос исторического созидания, который настолько охватывал героев и определял все их существо, что из поля внимания художника уходило все по отношению к этому историческому творчеству второстепенное. В этом заключается идейно-эстетическое своеобразие, художественная неповторимость и историческое величие героя советской литературы первого периода ее развития (с 20-х до середины 50-х годов).
Советское искусство утвердило гуманность всего того, что истинно революционно, что способствует преобразованию мира на социалистической основе. Именно пафосом революционного гуманизма проникнуты «Железный доток» А. Серафимовича, «Чапаев» Д. Фурманова, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, октябрьская поэма «Хорошо» В. Маяковского, трилогия А. Толстого «Хождение по мукам». Слияние личности и революционной действительности становится эстетическим идеалом советского искусства. Советская поэзия воспевает страну, где «мой труд» вливается в «труд моей республики».
Цельный, из единого куска стали отлитый человек и был предложен как человек новый, способный на революционные изменения мира во имя счастья человека. Была провозглашена идея: жизнь личности подчинена истории. «Сердце отдать временам на разрыв» — вот что предлагает искусство социалистического реализма. Личность многое отдавала революции, получая взамен величайшее счастье — участие в созидании истории, приобщенность к историческому творчеству. Поэт Н. Тихонов писал:
Мы разучились нищим подавать, Дышать над морем высотой соленой, Встречать зарю и в лавках покупать За медный мусор золото лимонов. Случайно к нам заходят корабли, И рельсы груз приносят по привычке; Пересчитай людей моей земли — И сколько мертвых встанет в перекличке.
Но всем торжественно пренебрежем. Нож сломанный в работе не годится, Но этим черным сломанным ножом Разрезаны бессмертные страницы.
В этой приобщенности к созиданию истории было счастье личности, смысл ее жизни.
Советское искусство с самого начала выдвинуло идею ответственности личности перед историей, и, может быть, наиболее полно эта идея была раскрыта в «Тихом Доне» М. Шолохова. Григорий Мелехов — прекрасный человек — приходит к внутреннему краху, к гибели именно потому, что не смог найти правильной дороги в жизни, приобщиться к историческому творчеству, влиться в общее историческое движение народа.
Советское искусство (спектакль МХАТа «Бронепоезд 14-69», картины Петрова-Водкина «Смерть комиссара», Иогансона «Допрос коммунистов», пьесы Н. Погодина, Вс. Вишневского, К. Тренева, А. Корнейчука) утверждает личность, посвятившую себя революции, способную на самопожертвование, включенную в историю и служащую человечеству. Человек, который в «железном потоке» истории «каплей льется с массами», объединен с народом в его активной борьбе, и был выдвинут как новый герой, воплощающий в себе идеал взаимоотношений между личностью и обществом.
В гуманизме советской литературы всегда была некая всесветность интернационального братства народов мира. Герой шел в бой и умирал не только за родные три березки. Он
...хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать.
М. Светлов.
Революция дала личности много величайших политических и экономических свобод и благ. Но она подчас и многое требовала от человека: самоотверженности, самопожертвования, самоотречения. Однако, как об этом свидетельствует советская литература, многие из требований, предъявлявшихся к личности, не только вызывали лишения, но и обогащали ее. Даже требование самоотверженности одаривало личность героическим характером, заставляло освободиться от эгоизма, приобщало к истории.
В предгрозовое, предвоенное время личность была озарена счастьем своей ответственности за судьбы мира.
Я чувствую подземный грохот, Торжественный неясный гул. Там поднимается эпоха, И я патроны берегу.
Л. Коган.
Для первого этапа развития советского искусства характерно эйзенштейновское понимание человека. В довоенных произведениях Эйзенштейна — «Стачка», «Броненосец «Потемкин»», «Октябрь» — судьба личности опосредована судьбой масс. Сюжетом этих произведений стало то, что ранее в лучшем случае могло быть лишь его второстепенным элементом: «социальным фоном», «социальным пейзажем», «массовой сценой», «эпическим отступлением». Это было открытием Эйзенштейна, выдвинувшего в центр кинодрамы народ. Он не обеднил человеческое содержание своего искусства, не принес в жертву революции традиционного индивидуального героя, а в полном соответствии с духом эпохи, с генеральной тенденцией ее художественного сознания показал личность, которая «каплей льется с массами».
Герой Эйзенштейна может вызвать сильнейшее сострадание, как, например, мать в эпизоде на одесской лестнице («Броненосец «Потемкин»»), или завоевать наши симпатии своим обаянием, как кольчужник Игнат («Александр Невский»). Однако переживание зрителя никогда не замыкается на личной судьбе персонажа, а выводится за ее пределы и сопрягается с переживанием драмы самой истории.
В ходе Великой Отечественной войны с фашизмом вырос и обогатился жизненный опыт советского народа. Советская литература освоила науку ненависти и провозгласила гуманизм уничтожения фашизма — врага гуманизма. В. Инбер писала:
Чтобы паучья лапа не всползала На мрамор человеческих святынь, Избавить мир, планету от чумы — Вот гуманизм! И гуманисты — мы.
С середины 50-х годов духовная жизнь нашей страны, а следовательно, и искусство вступили в новый этап. Вырос эстетический идеал литературы, а понимание гуманизма расширилось и обогатилось. Проблемы сопряжения личности и человечества, соотношения гуманизма и прогресса обрели жизненную сложность, диалектическую гибкость, обострилась гражданственная ответственность литературы и перед историей, и перед личностью.
Ничего не утратив из открытий, совершенных в предшествующие годы, еще более решительно утверждая деятельную, исторически активную личность, советское искусство, быть может впервые, в полном объеме осмыслило обоюдность процесса: не только личность для истории, но и история для личности. На первый план выдвинулась проблема собственной ценности человека»
Советское искусство утверждает героическую способность человека «сердце отдать временам на разрыв». Да и сегодня для нас судьба человеческая — судьба народная. И сегодня мы утверждаем гуманизм революционного преобразования мира и исторического творчества масс. В шолоховской «Судьбе человека» и одноименном фильме С. Бондарчука, в катаевских «Святом колодце» и «Траве забвения», в драматургии В. Розова, А. Вампилова, Н. Володина, в прозе Ю. Бондарева, В. Тендрякова, Ю. Трифонова, в фильмах М. Ромма и Ю. Райзмана и т. д. звучит не только традиционная тема ответственности личности перед обществом, но и тема ответственности общества за судьбу и счастье личности.
Разоблачая антигуманизм буржуазной идеологии, советское искусство утверждает, что человек должен отдавать себя людям, быть человеком для других, иначе эгоистическая замкнутость лишает его жизнь смысла, превращает ее в абсурд. Однако если духовное развитие человека вне общества оборачивается в конце концов деградацией личности, то и развитие общества вопреки интересам личности столь же непрогрессивно по существу.
Сегодня советское искусство противостоит двум крайним позициям, приверженцы которых стремятся разрушить высшие гуманистические ценности и завоевания человечества. Эти крайние позиции — стадный коллективизм хунвейбинов, уничтожающий личность, и буржуазный эгоцентризм, обрекающий человека на абсурд одиночества. Человек — не топливо истории, дающее энергию для обесчеловеченного общественного прогресса. Человек не навоз для удобрения современности, на ниве которой должно произрасти некое абстрактное будущее. Советское искусство утверждает, что коммунизм растет в людях, вместе с людьми и во имя людей. Прогресс вне и помимо личности, вне и помимо ее интересов не только теряет всякий смысл, но и обращается в свою противоположность.
Почти любое открытие в истории человечества не только приносило новые блага, но и оборачивалось нередко бедами для людей. Именно поэтому прогресс не абстрактен. Гуманизм — компас общественного прогресса. Научный и технический прогресс — величины векторные, т. е. они имеют не только свое количественное выражение, но и свою ориентацию в пространстве и времени, свое направление. Б. Шварц изобрел порошок для фейерверка. Но то, что было создано для любования, обернулось бедой. Порох стал средством разрушения и убийства. Поэт Д. Самойлов по этому поводу не без основания спрашивает:
Неужто все, чего в тиши ночей Пытливо достигает наше знанье, Есть разрушенье, а не созиданье, Чей умысел здесь? Злобный разум чей?
Электромагнит, с помощью которого неофашистские «ультра» пытали людей, — такое же дитя технического прогресса, как и домашний холодильник. Чтобы в истории всякий шаг вперед, любое новое открытие не оборачивалось новой несвободой человека, искусство социалистического реализма выдвигает такую концепцию, согласно которой общественный прогресс должен протекать через бытие личности и обеспечивать ее счастье и свободу, а личность должна быть избавлена от эгоцентрической замкнутости и превращена в личность для людей. Эта проблематика глубоко разрабатывается, в частности, в творчестве Б. Брехта.
В «Добром человеке из Сезуана» боги не принимают прямого участия в делах мира, они лишь создают те обстоятельства, которые позволяют исследовать интересующую автора проблему. Создание таких экспериментальных обстоятельств есть традиция просветительской драмы, восходящая к Лессингу. Это один из важных художественных компонентов интеллектуальной драматургии, задача которой состоит не столько в том, чтобы правдиво отразить типические характеры, действующие в типических обстоятельствах, сколько в том, чтобы истинно решить, хотя бы поставить проблему во всей ее сложности и многогранности. Условия эксперимента в «Добром человеке из Сезуана» глобальны. Речь идет о художественно-интеллектуальном исследовании состояния мира.
В самом начале пьесы боги откровенно формулируют условия и цель эксперимента:
Первый бог. Мы еще можем натолкнуться на доброго человека. В любую минуту. Мы не должны сразу отступаться.
Третий бог. Постановление гласило: мир может оставаться таким, как он есть, если найдется достаточно людей, достойных звания человека.
Первым, исходным звеном эксперимента становится предоставление ночлега трем уставшим от похода богам. Все жители Сезуана заняты делом, и никто из них не хочет помочь неизвестным, в которых водонос Ванг узнал богов. И тогда Ванг обращается с просьбой о предоставлении ночлега к самому доброму человеку Сезуана— проститутке Шен Де. Правда, у ее доброты есть и сомнительный оттенок: она никому не может сказать «нет». Образ героя, живущего по этому принципу, полно развернут Брехтом в Гали Гае, которого из-за этого свойства его характера превращают в послушного приказам солдата-убийцу. Но доброта и покладистость Шен Де получают иное направление: она помогает людям. На деньги, полученные от богов за ночлег, она приобретает табачную лавку. И сразу же на этот огонек призрачного благополучия собирается множество страждущих, бездомных, голодных, нищих людей. И по своей доброте Шеи Де не может отказать в приюте, в миске риса, в помощи, но просящих о помощи много, и это разорительно.
Шен Де говорит:
Спасенья маленькая лодка Тотчас же идет на дно — Ведь слишком много тонущих Схватились жадно за борта.
Брехт с резко осуждающим состраданием относится к людям. Он и осуждает, и объясняет обстоятельствами жизни зло, алчность и неразумную взаимную жестокость людей. Когда возлюбленный Шен Де - Сун узнает, что она беременна и у них должен родиться ребенок, первое, о чем думает бывший летчик, — это о своем новом положении в фирме. Брехту глубоко антипатична эта алчность. Но он смотрит на нее мудрыми глазами, понимая, что это не есть порок самого человеческого естества, это условный рефлекс, выработанный годами жизни в джунглях буржуазного мира. Однако этот условный рефлекс грозит перерасти в инстинкт хищности. Зло отчаявшегося человека вызывает ответное зло обиженных им людей. Но еще не все потеряно. Цепную реакцию зла еще можно прервать, и Брехт ищет путей к этому.
Создание системы Шен Де — Шой Да (уравновешивание доброго человека, альтруиста Шен Де разумным эгоистом Шой Да)—один из экспериментальных вариантов, один из проектов усовершенствования человека. Шой Да необходим Шен Де, как тень свету. Она по необходимости должна перевоплощаться в него. Зло оказывается необходимым продолжением добра. Даже на суде, когда уже обман обнаружен, Шен Де настаивает на необходимости сохранения Шой Да:
Первый бог... Среди вас остается добрый человек!
Шен Де. Но мне нужен двоюродный брат!
И тут даже боги соглашаются с этой необходимостью и начинают торговаться, насколько часто добрый человек имеет право быть злым, чтобы не потерять свою доброту;
Первый бог. Только не слишком часто!
Шен Де. Хотя бы раз в неделю!
Первый бог. Достаточно раз в месяц!
Шой Да и «смертельный враг», и «единственный друг» Шен Де. Он необходим ей, иначе она не может противостоять напору окружающей действительности. Даже боги, вся концепций мира которых была основана на выполнении людьми определенного числа заповедей добра, и те признали возможным, чтобы добрый человек во имя самосохранения изредка совершал злые поступки Раз в месяц или раз в неделю — это уже вопрос количества, а не качества.
И впрямь, может быть, это выход? Человек живет по законам добра, по принципам Шен Де, несмотря на несовершенство окружающего мира. Человек отдает себя людям. Люди неразумно и алчно пользуются этой добротой, предают разграблению все то, что дает им альтруист, и ставят под угрозу не только его благополучие, но и его существование. Вот тогда-то альтруист (Шен Де) оборачивается разумным эгоистом (перевоплощается в Шой Да) и несколькими практическими действиями «выравнивает» положение. Зло Шой Да есть способ самосохранения Шен Де и всех ее добрых дел и намерений. В принципе Шой Да не против помощи другим людям. Но эта помощь должна осуществляться на «разумных» основаниях, на основании разумного эгоизма, по принципу «взаимной выгоды». Шой Да прокламирует принципы практического альтруизма (разумного эгоизма), которые должны обеспечить и помощь голодным, страждущим, и сохранение источника помощи, и благополучие помогающего.
Казалось бы, все устраивается. Шен Де уравновешена Шой Да. Помогающий обретает благополучие и средства для расширения помощи; те, кому он помогает, обретают работу и заработок. Все улажено.
Но, собственно, что же это за выход? Ведь на деле практичный альтруизм (разумный эгоизм), вносимый Шой Да в «непрактичную» и «неразумную» доброту Шен Де, создает необходимое и неизбежное равновесие в системе, которая обеспечивает движение общества по испытанному руслу: рабочий продает свой труд, собственник присваивает себе прибавочный продукт. Вся система оказывается всего лишь известной моральной модификацией экономической системы товар — деньги — товар, в которой рабочая сила выступает тоже как товар и в которой прибавочный продукт может не только идти на расширение воспроизводства, но и использоваться для расширения благотворительных действий. Но сколь бы ни была расширена эта благотворительная деятельность, она ничего принципиально не меняет. Она не разрушает коренного различия между господствующими собственниками и рабочими.
Анализ моральной системы практичного альтруизма (разумного эгоизма) ведется Брехтом со всей трезвостью и беспощадностью. Он вскрывает мелкособственнический характер, мелкобуржуазные корни, лежащие в самом глубоком основании этого принципа. В конце концов Брехт фактически показывает жизненное несовершенство «практичной» и «разумной» системы Шен Де — Шой Да. На поверку оказывается, что все добрые дела, совершенные Шен Де, могут быть сведены на нет деятельностью практичного Шой Да. Даже если он будет появляться только раз в месяц, он может быстро разрушить все призрачное благополучие всех спасенных.
Носитель буржуазного практицизма Шой Да настолько грозен, что, быть может, появляйся он даже один раз в год, он мог бы с лихвой перекрыть злом и «разумной» корыстью все добрые начинания Шен Де. Нет, разумный эгоизм, буржуазный практицизм, благотворительность, практичный альтруизм, уравновешивание добра злом и зла добром — не выход для человечества.
Духовное развитие человека должно идти через общество, во имя людей, а развитие общества должно идти через человека, во имя личности — в этой диалектике человека и человечества смысл истории и суть истории.
Мир не хлам для аукциона.
Люди мы, а не имя рек.
Все прогрессы — реакционны,
Если рушится человек.
А. Вознесенский.
Обогащенное великим революционным опытом, советское искусство учит людей гуманизму, пробуждает в человеке добро и ищет даже для борьбы со злом такие средства, в которых соблюдена мера, найдено определенное соответствие цели и средств, сочетание отрицания и утверждения, принуждения и убеждения, разрушения и созидания. Разрушительные действия средств не должны превосходить созидательного содержания цели. Человек должен отдавать себя людям, быть человеком для других, иначе эгоистическая замкнутость лишает его жизнь смысла, превращает ее в абсурд.
Нет прогресса вне гуманизма, и нет гуманизма вне общественного прогресса. Эту важную и острую проблематику выдвигают И. Нилин в повести «Жестокость» и В. Скубин в фильме по этой повести. Венька и его начальник спорят по существу о двух разных концепциях общественного прогресса — речь идет о гуманистическом и антигуманистическом путях общественного развития. Начальник ради «прогресса», ради авторитета Угрозыска и Советской власти, как он его понимает, решает пожертвовать Лазарем Баукиным. П. Нилин против такого жестокого, негуманного решения проблемы общественного прогресса. Он доказывает, что такой путь враждебен самому принципу Советской власти, самому существу идей коммунизма. Нельзя решать ни одну практическую задачу вне и помимо гуманизма. И поэтому прав Венька Малышев, считающий, что гораздо важнее пробудить к сознательной жизни заплутавшегося, темного Лазаря Баукина, чем погубить его во имя абстрактных общественных интересов.
Гуманистическое взаимоотношение человека и общества утверждается и в повести М. Шолохова «Судьба человека». Автор раскрывает духовное богатство и красоту человека, живущего для других, и утверждает его право на счастье. Весь рассказ полон восхищения перед мужеством, бескорыстием и великодушием героя и проникнут болью за то, что все мы еще очень мало сделали для этого человека, так много отдавшего Родине и людям.
Герой повести — человек недоли. Бури, пронесшиеся над веком и над страной, искалечили его судьбу, многое, почти все отняли у него. Герой говорит о том, что на войне ему пришлось «хлебнуть горюшка по ноздри и выше». Глубоко живет в герое ощущение неосуществленной жизни. Он признается: «Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке. Нету и не дождусь!..» Поначалу жизнь героя «была обыкновенная»: в гражданскую войну был в Красной Армии. В голодный двадцать второй год подался на Кубань ишачить на кулаков, поэтому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена попалась хорошая. Жили дружно. Пошли дети, и прибавилось в доме счастья. Но все это безжалостно сгубила война. Сам герой проходит через ужасы фашистского плена.
Герой мужественно ведет себя в плену. Он спасает от смерти командира, убивая предателя, отказывается пить во славу немецкого оружия, рискуя жизнью. С огромными трудностями вырвавшись из плена, он на родине узнает о гибели семьи. Трудно, безмерно трудно, как медленно выздоравливающий после смертельной болезни человек, возвращается опаленный войной герой к жизни. И вся его жизнь — это скорее не «судьба человека», а его не судьба. В повести и в фильме раскрывается абсолютно не эгоцентрическая концепция человека. Точкой опоры в судьбе героя становится мальчик-сирота, которому нужна помощь, который погибнет без человеческого участия. Герой не только возвращает к жизни беспризорного мальчонку, но и сам возвращается к жизни благодаря ему, благодаря ощущению своей нужности другому. Если суть концепции человека в экзистенциализме состоит, как мы видели, в утверждении непроходимой пропасти между человеком и другими людьми, то советский писатель и советский кинорежиссер, напротив, утверждают, что только жизненная необходимость человека другим является опорой его собственной жизни. Без этого у человека нет смысла жизни и нет сил для жизни.
И все же герой остается пока неприкаянным. И люди не уделили ему еще даже части того внимания, той душевности, которые он заслужил, отдавая себя им: «Может, и жили бы мы с ним (с усыновленным мальчонкой. — Ю. Б. и М. С) еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном Хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбегался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем. .. тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся...»
Так и уходят через распутицу и чуть тронутую ранним весенним солнцем степь два человека; они идут устраивать свою жизнь, искать свою судьбу, снова отдавать себя людям, но они идут и для того, чтобы найти счастье.
С каким терпением и с какой иронией, в которой не чувствуется даже и особой обиды, говорит герой об инспекторе, отобравшем у него шоферские права. Его лишают возможности работать по специальности в то самое время, когда это нужно было ему не только для него самого, но и для другого, для мальчонки.
Когда-то Эсхил в «Эдипе» показал, что трагедия возникает потому, что человек не может сообразовать свои действия с не познанной еще Вселенной. Он действует только в меру своих знаний, а Вселенная судит его, требуя знаний всех обстоятельств, требуя действия с учетом всей бесконечной сложности бытия. Шолохов показывает другую сторону проблемы: мы (в данном случае автоинспектор) часто судим о человеке только по поступку, прилагая к нему стандартизированную норму поведения, не сообразуясь со всей сложностью его судьбы. Вот и получается, что корова поднялась и пошла скакать по переулкам, а «человек книжки лишился». А ведь не смилостивился инспектор над таким человеком, которого в фашистском плену «били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют», который потерял все самое дорогое на земле, который с трудом, с великим трудом возвращался к жизни.
Повесть как бы говорит о том, что все мы задолжали во внимании этому человеку, все мы задолжали ему в счастье. Но и повесть, и фильм заканчиваются на высокой, очень человечной ноте, утверждая жизнь личности для людей, для Родины и жизнь людей для человека. Оба произведения полны надежды на счастливую судьбу человека и грусти от понимания того, насколько трудной ценой дается это счастье. «Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина. С тяжелой грустью смотрел я им вслед...»
Могучие ветры истории проносятся над головой человека и часто превращают его в песчинку, заброшенную в чужие края. Но человек должен активно включиться в историю, а история должна дать человеку счастье. Человек не имеет права не быть счастливым, а история не имеет права обделять человека судьбой.
Всестороннее развитие личности, гармоническое ее объединение с обществом, человечеством — в этом высшее гуманное назначение искусства социалистического реализма. Активный, действенный, созидающий гуманизм составляет пафос, цель, назначение, высший смысл, сверхзадачу советского искусства, его главную тему, генеральную идею, основное содержание.
Одной из центральных проблем художественной концепции личности, выдвигаемой советской литературой особенно в последние десять — пятнадцать лет, является проблема связи нового, рожденного социализмом человека с национальными традициями народа. И в фильмах В. Шукшина, и в рассказах В. Белова, и в повестях Ч. Айтматова все более и более дает себя знать эта проблематика.
В первые десятилетия развития советская литература запечатлевала те новаторские черты, которые все более явственно проступали в характере советского человека под влиянием новой действительности, в ходе активного включения человека в борьбу за социалистическое переустройство мира. И В. С. Иванов, и А. Фадеев в образе дальневосточных партизан, и Д. Фурманов, и братья Васильевы в образе Чапаева, и М. Шолохов в образе Давыдова, и А. Корнейчук, и В. С. Вишневский, и другие в своих героях видят людей, «выламывающихся» из традиций и быта старого мира и устанавливающих новые взаимоотношения. Казалось, что решительно и бесповоротно рвутся невидимые нити, связывающие личность с прошлым. Этот упор на разрыв с прошлым и его традициями был вполне правомерен в период становления нового человека.
Советское искусство последних двух десятилетий имеет дело с движущимся, непрерывно развивающимся человеком, бытие и новые черты характера которого есть реальность. Эта реальность с особой точностью была проверена в годы Великой Отечественной войны и в других великих социальных битвах и событиях. Естественно, что художественное рассмотрение формировавшегося нового человека не могло хотя бы в ряде существенных произведений советской литературы и искусства не перенести центр тяжести с вопроса о становлении новаторских особенностей на вопросы о том, как, в чем, какими чертами новый человек связан с многовековыми национальными, психологическими, культурными, бытовыми, этическими и другими традициями и навыками. И тут выяснилось, что человек, порвавший в своем устремлении к преобразованиям с национальной традицией, лишается почвы для богатой и общественно целесообразной, гуманной жизни. Подлинное новаторство, даже качественно меняя личность, должно продолжать лучшие национальные традиции.
С этой точки зрения характерно то осуждение иронией, которое звучит в маленьком рассказе В. Шукшина, повествующем о расторопном и беспардонном бригадире и трактористах, рушащих церковь, чтобы использовать кирпичи для постройки свинарника. Это осуждение зиждется на уважении к культуре и искусству предшествующей эпохи. Столь же решительно порицает Ч. Айтматов одного из героев повести «Белый пароход» — Оразкула. Он не только жесток и деспотичен, не только не бережет народное добро, которое он призван охранять, но и попирает все добрые традиции, предания и заповеди народной жизни. Олениха, которую убивают по приказу Оразкула, олицетворяет в повести глубокую национальную традицию доброго отношения ко всему живому, к природе и символизирует историческое прошлое киргизского народа. Злодейство Оразкула выражается не только в самоуправстве по отношению к окружающим, но и в попрании традиций своего народа.
Только там сохраняется истинная почва для произрастания новых мыслей и чувств, новых черт характера, где решительный разрыв с отжившими привычками прошлого сочетается с уважением к национальным традициям народа и следованием всему доброму, разумному в них.
Искусство социалистического реализма во второй половине XX в. углубило концепцию личности; выдвигавшуюся в первые послеоктябрьские десятилетия. Эта концепция, ничего не утратив из открытий и достижений советской классики тех лет, ныне обогатилась полувековым опытом строительства социализма, опытом Отечественной войны, борьбы за коммунизм.
Личность отдана истории, ее жизнь посвящена борьбе за человечество — эту идею утверждало советское искусство на первом этапе развития художественной концепции личности и мира. Личность самоценна — утверждал экзистенциализм и логически доходил до идеи абсурдности жизни. Современное советское искусство диалектически «снимает» возражения и аргументы экзистенциализма против художественной концепции личности, созданной социалистическим реализмом.
Согласно художественной концепции, выдвигаемой искусством социалистического реализма последних десятилетий, люди живут в «прекрасном и яростном мире», где человек ощущает, что «без меня народ не полный» (А. Платонов). В этой формуле продолжается и развивается идея Маяковского, который говорил, что личность «каплей льется с массами». Идея единения личности с народом выражена здесь в форме признания самостоятельной ценности личности и ее значимости для общего исторического процесса.
Искусство социалистического реализма и сейчас прокламирует концепцию исторически активной личности.
Галилей у Брехта протестует против прекраснодушного утверждения, что ход истории разумен и все само собой уладится. Нет! В истории лишь столько разума, сколько вносят в нее люди. Н. Хикмет, утверждая историческую активность человека, писал:
Ведь если я гореть не буду, и если ты гореть не будешь, и если мы гореть не будем, так кто же здесь рассеет тьму?
Сегодня социалистический реализм рассматривает взаимоотношения личности и общества во всей их сложности и видит «обратную связь» в этом взаимодействии. Не в замыкании в скорлупу одиночества, а во включенности в исторический процесс — смысл жизни человека. Но не о растворении личности в истории идет речь, а о личности, которая вбирает в себя все богатства, накопленные человечеством, и отдает человечеству все богатства, которые она восприняла у предшествующих поколений и приумножила своим творческим трудом.
Прогресс не вопреки и не за счет индивида. Человек— для людей и общество — во имя человека — в этом суть художественной концепции личности, выдвигаемой искусством социалистического реализма. Эта концепция проникнута высокими гуманистическими идеалами и совпадает с объективным ходом истории, и в этом залог того, что лучшие творения социалистического реализма навеки останутся современниками людей.
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 6409
Другие книги
Редакция рекомендует
Пропаганда до 1918 года




От Первой до Второй мировой




Вторая мировая



После Второй Мировой




Современность