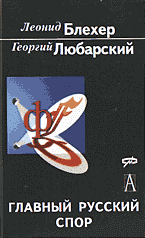Россия не может идти чужим путем.
Она и своим-то идти не может.
Константин Мелихан
Историю представлений о вестернизации и модернизации изложил А. Зубов.
А. Зубов
Выявились опять же две позиции по отношению к модернизации незападных обществ. Модернизация или вестернизация? — так был поставлен вопрос в конце 1950-х годов.
Сторонники вестернизации, а к ним тогда относились ведущие политологи Запада — Сеймур Лип-сет, Даниэл Лернер, Габриэль Алмонд, Люсьен Пай, — полагали, что по мере того, как в странах Востока (о России тогда речи не было, речь шла о так называемом свободном Востоке, который не находился в коммунистической системе) будет достигнут определенный уровень массового образования и экономического развития, определенный уровень развития информационной инфраструктуры, то тогда в них обязательно проявятся и утвердятся нормы западной демократии, западной политической жизни и они станут западными странами. То есть проблема отличия Востока от Запада есть проблема отставания. Так говорили вестернизаторы.
Модернизаторы же утверждали, что, безусловно, в странах Востока необходимы определенные социальные и экономические сдвиги, да они и происходят. Но думать, что в результате этих сдвигов, скажем, Индия станет Англией, а Камбоджа — Францией (я называю колонии и метрополии), — думать так абсолютно наивно. Иные культурные предпосылки, иные цивилизационные базисы приводят к иным методам использования новшеств — в социальной, естественно, а не в экономической сфере — в незападном обществе. Экономическое, информационное, образовательное развитие, неизбежное и желаемое любой страной, служит не для уподобления этих стран Западу, а для того, чтобы они, оставаясь самими собой, т. е. в пределах своего цивилизационного типа, могли более адекватно реагировать на общемировые экономические и социальные процессы и тем самым оставаться конкурентоспособными в новом мире, в мире новых реальностей. При этом в 1950-е годы «модернизаторы» исходили большей частью из того, что демократия, права человека — дары христианской, уже — протестантской цивилизации, которые в иных культурах ни развиться самостоятельно, ни привиться извне скорее всего не смогут. Так в той дискуссии полагали Джон Пламенатц, Роланд Пеннок, Эрнст Гриффис.
С 1960-х до конца 1970-х годов теория вестернизации доминировала, а теория модернизации была не то что разгромлена, а просто отодвинута, как слишком много места уделяющая религиозным, историко-культурным особенностям и поэтому излишне сложная. Но уже в конце 1970-х годов стало появляться все больше фактов, свидетельствовавших о том, что ни Индия, ни Япония, ни Турция при всей модернизированности их экономической и социальной структуры и имплантации в них парламентских институтов не стали западными странами, а остались тем, чем были. И цивилизационная парадигма обретает теперь иной, позитивный, модус. В рамках этой парадигмы было признано, что разные цивилизации могут модернизироваться и, оставаясь самими собой, достигать уровня западной развитости.
Одни ученые приветствовали это, другие, особенно западные, испытывали растущий страх перед усилением иных цивилизаций. Изнурительная война США и Великобритании с Японией в 1941-1945 годах, поражение Франции в Алжире и США во Вьетнаме знаменовали возникновение иных цивилизационных соотношений. Очень интересна здесь эволюция Сэмюэла Хантингтона. В свое время он был одним из главных сторонников теории вестернизации и с горячностью, ему всегда свойственной, защищал эту теорию. А в своей последней книге «The Clash of Civilisations» он, наоборот, перешел на очень, я бы сказал, прямолинейно-наивную позицию незыблемости цивилизационных границ, проведенных при этом с учетом лишь одного из аспектов цивилизации — конфессионально-религиозного. /.../
С одной стороны, происходит общий и закономерный для всех процесс развития, и в этом смысле мы не должны ожидать, что одна цивилизация пойдет по совершенно иному пути, чем другая. Скажем, цивилизация не может, как правило, развившись до высоких пределов, остаться аграрной, не создать городов, систему современной науки, современных исследовательских центров, современную инфраструктуру информации, не освоить компьютеры, денежное обращение и т. д., без чего не может быть развитости. Но, с другой стороны, каждая цивилизация все это делает иначе, чем другая. К анализу любой, в том числе и русской, цивилизации следует подходить, основываясь на этих двух моментах: что в ней непохоже на западное в силу того, что она еще находится на другой возрастной стадии (предположим, низкая компьютеризированность общества), и что в ней действительно сущностно другое, что может развиться, но не может уподобиться иноцивилизационным формам. В этом, полагаю, и состоит главный предмет дискуссии (Клуб Дискурс: Социум, 2001).
В этой связи возникает вопрос о цене модернизации. В модернизации мы «покупаемвремя», и естественно поинтересоваться, сколько оно стоит. Даже если товар нам необходим, мы не можем купить его за большую сумму, чем у нас есть.
А. Зубов
Затрагивается вопрос об успешных и неуспешных модернизациях. При этом утверждается, что петровская и сталинская модернизации были успешны, а, допустим, модернизация Александра II не была успешной. Но что есть успех и каков критерий успеха? На каком основании мы считаем сталинскую модернизацию, скажем, успешной, а реформы Александра II неуспешными? Только ответив на эти вопросы, можно говорить о правомерности или неправомерности тезиса Клямкина о том, что Россия эффективно развивается только в ситуации угрозы войны или самой войны, а ситуации испытания миром она, как правило, не выдерживает. А чтобы ответить на него, мы должны поговорить о проблеме, которая в науке уже исследуется в рамках отдельной дисциплины. Это аксиология — наука о предельных ценностях, вне которых нельзя рассматривать категорию успеха.
Можно ли считать успешными реформы Петра при той цене, которую он заплатил, к примеру, за строительство Петербурга, — я имею в виду гибель десятков, а то и сотен тысяч людей, связанную с возведением «средь топи блат» этого миража на Неве? Оправданна или не оправданна такая цена Петербурга? Можно ли считать успешными сталинские реформы, за которые народ России заплатил десятками миллионов человеческих жизней? Есть ли у реформ предельная цена? Не обесценены и, даже более того, не вредоносны ли для русского общества были все эти Магнитки и Беломорбалты, если построены они на слезах, крови и костях? Это — вопрос не чисто моральный, хотя для меня моральное измерение всегда очень важно. Это, если угодно, и вопрос сугубо демографический, ибо речь идет об уничтожении миллионов людей. Причем при Сталине, как известно, уничтожались не худшие, а лучшие, самые ценные для общества люди — лучшие крестьяне, выдающиеся инженеры, интеллектуалы, мыслители, философы, активные, энергичные, профессиональные рабочие, а также государственные деятели — ответственные и нравственные, которые не могли смириться с этими действиями советской власти.
Можно ли сказать, что уничтожение этой лучшей части нашего общества не обезобразило нацию, что после этого не произошла некоторая генетическая деградация народа? Известно, скажем, что после наполеоновских войн рост французских мужчин уменьшился на несколько сантиметров, произошла генетическая деградация. Так вот, может быть, такая цена «успешной» в кавычках реформы есть как раз катастрофический неуспех этой реформы, потому что не железками определяются успех, счастье, цель, а определяются, как я думаю, двумя важнейшими критериями, которые в конечном счете соединяются в один. Критерии эти: во-первых, благополучное и безопасное существование в достатке и при защите от внешних и внутренних опасностей гражданина и человека, а во-вторых, объем общественной свободы, гарантированный личности (Клуб Дискурс: Социум, 2001).
Непосредственно теория вестернизации зашла в тупик — как и ориентированные на ее рекомендации социальные действия. Выяснилось, что прямо на Запад не может шагнуть ни одна страна.
Г. Померанц. 1994. Выбор XXI века
Великие коалиции культур, возникшие вокруг Главной Книги, принципиально равноправны. Мир ислама, индуистско-буддийский мир Южной Азии и конфуцианско-буддийский мир Дальнего Востока не могут быть полностью вестернизированы. Процесс вестернизации, сперва односторонний, давно перешел в диалог.
Те трудности, которые встретила на этом пути Россия, не имеют отношения к местным особенностям. Совсем не бесполезно говорить о недостатках отечественной привычки трудиться, о недостаточной гибкости в усвоении новых знаний — самокритика полезна, но эти разговоры не имеют прямого отношения к неудачам и срывам наших вестернизаций. Того результата, который мыслился в начале вестернизационных действий, невозможно достичь этим путем.
В. Лапкин указывает, что способ купить то, что стоит дороже, чем мы можем позволить себе заплатить, называется «модернизацией ».
В. Лапкин
Российская цивилизационная парадигма принципиально иная, чем та, что роднит западноевропейские нации и формирует североатлантическую цивилизацию. «Смена парадигмы», необходимая в этой ситуации для вхождения России в западную цивилизацию, есть нечто не имеющее в мировой практике прецедентов успешной реализации, по существу подменяющее модернизацию вестернизацией и закрывающее для России возможности построения нации-государства. Пример Японии, успешно решающей (и практически уже решившей) ту задачу, которая не по силам России, указывает совершенно иной путь. Япония и евроамериканский Запад демонстрируют взаимосогласованное встречное сближение: эволюционной трансформации японской цивилизационной парадигмы соответствует преобразование кодов западноевропейской цивилизации, все в большей мере обретающей способность к универсальной интеграции инородного культурного, социально-политического, хозяйственного опыта. Модернизация, собственно, и есть процесс цивилизационной «мутации», преобразования традиционной цивилизации в форму цивилизации «универсальной». В то же время вестернизация, попытка нивелировать цивилизационное своеобразие России не вызовет ничего кроме резкой реакции отторжения модернизации как таковой (Клуб Дискурс: Социум, 2001).
В таком понимании модернизация есть торги по поводу цены времени. Те, кто не может заплатить выставленную продавцом стоимость, начинают торговаться, продавец сбавляет цену, и достигается приемлемое решение.
Примерно об этом же говорит и В. Межуев, обращая больше внимание не на экономическую, а на политическую сторону возможных «торгов».
В. Межуев
Европейская модернизация шла прежде всего под лозунгами либерализма, хотя определенным образом реагировала и на те требования, которые выдвигались консерватизмом и социализмом. Иными словами, она осуществлялась в режиме диалога между этими тремя проектами «модерна», т. е. в демократическом режиме, а не навязывалась властью сверху. В России же модернизация никогда не означала ни демократизации, ни либерализации общества и власти. /.../ Модернизация — не прямолинейное движение по кем-то намеченному и единому для всех пути, а состояние постоянного выбора оптимального варианта этого движения, зависящего от конкретных условий и обстоятельств (Клуб Дискурс: Социум, 2001).
В рамках такого рода рассуждений вестернизация и модернизация являются разными стратегиями действий. В таком случае можно детально обсуждать наличные стратегии в терминах соотношения в них модернизации и вестернизации.
В. Федотова
Приведу мнение С. Хантингтона, который показывает несколько путей развития. Один путь — вестернизация без модернизации. По нему пошли Египет, Филиппины. Казалось бы, на Филиппинах было американское присутствие, но там не родилось чего-нибудь, похожего на западный капитализм. Ничего подобного, самое непродуктивное общество. Египет и Филиппины находятся в бедственном положении. Второй путь — модернизация без вестернизации. По этому пути пошла Юго-Восточная Азия. Она модернизировалась, не меняя своей идентичности. ...Японцы модернизировались на собственной культурной основе, то есть они, не меняясь культурно, производили современные вещи, провели технологическую революцию. Многие, правда, говорят, что стагнация Японии 1990-х годов — следствие отсутствия вестернизационного элемента. Японцы производят то, что им самим в жизни не нужно, они остаются жить в старом мире. Этот опыт успешен, но относительно успешен.
Третья форма развития, о которой говорит Хантингтон, — догоняющее развитие, при котором пропорции модернизации и вестернизации примерно одинаковы. По этому пути давно идут Россия, Турция, Мексика. Но развитие по модели догоняющей модернизации заходит в определенный тупик. С чем это связано? Первое, уже упомянутое: неизвестно, какую фазу развития Запада догоняем. Второе: если рекультуризация, т. е. вестернизация, отрицание собственной культуры осуществляется очень быстро или является чрезвычайно оскорбительным по своей манере, то неизбежны откаты назад. /.../
Демократия на Западе будет трансформироваться, потому что она — не вечный спутник западного капитализма. Вестфальская мировая система после тридцатилетней войны дала систему национальных государств, о демократии речь не шла. А потом, после Филадельфийского конгресса в Америке, возникла Филадельфийская система, в которой уже демократия выступила на передний план. А сейчас происходит не только трансформация Вестфальской системы, но и трансформация Филадельфийской системы в связи с глобализацией. Скажем, такой очень известный автор, как Т. Иногучи, написал статьи и книги о том, что демократия на самом Западе тоже видоизменяется, что фетиш демократии сегодня не может стать основанием для преобразований. Но все-таки, если мы хотим жить в демократическом обществе, а мы можем этого хотеть, то мы можем перенимать еще западные институциональные структуры: демократические, управленческие, экономические, образовательные. Все, что нам представляется ценным, мы можем брать, нам никто этого не запрещает, но мы не можем сказать, что мы догоняем Запад или развиваемся по западной модели, потому что Запад сам трансформируется.
Помимо Хантингтона и Ш. Айзенштадт — классик теории модернизации — говорит, что сегодня существует множество модернизмов. Нет единой линии, ориентированной на Запад и догоняющей его. Никому не удалось догнать. Даже Германия заплатила цену Первой и Второй мировых войн, чтобы, находясь в середине Европы, стать Западом по сущности своей культуры. Португалия, Италия, Испания становились западными странами очень болезненно и долго. Никто из других регионов мира не превратился в Запад и не может превратиться (Клуб Дискурс: Социум, 2001).
Постепенно выясняется, что стратегий придумано много, но «царского пути », безошибочно ведущего на Запад, не найдено.
С. Цирель
Да, конец «эпохи модернизаций» еще очень далек, мир живет не только и не столько в обществе «третьей волны», а, в основном, в более ранних обществах, искаженных и изуродованных западной цивилизацией и глобализацией. Ведь 5/6 населения земного шара не закончило или даже не начинало модернизацию. И речь идет не только об арабском Востоке, но и о таких крупнейших странах, как Россия, Индия и Китай. Не следует благодушно уповать на то, что китайская и, особенно, индийская цивилизации традиционно менее ориентированы на внешнюю экспансию, чем средиземноморские. Потому что модернизация может сделать агрессивной даже цивилизацию тюленей. При этом, как показал опыт Германии, с одной стороны, и Ирана — с другой, срывы модернизации происходят как на самой поздней, так и на самой ранней ее стадиях. А произойдут они или нет, зависит прежде всего от западных стран и их лидеров — в том числе и от их способности понять то, что такого рода проблемы нельзя решить только военным путем (Клуб Дискурс: Социум, 2001).
Путь модернизации не стоит представлять себе как бесплатный; в отличие от вестернизации, «здесь торгуются», но это не значит, что время дают бесплатно. И в связи с этим опять возникает вопрос о «цене» — теперь уже цене модернизации. Платить придется, это ясно, но как установить «справедливую цену »?
А.С. Панарин, 1996. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса
До сих пор нельзя ответить со всей определенностью, удался ли «опыт Петербурга» и петербургского периода нашей истории. Петербург так и не был до конца усыновлен народным сознанием. /.../ Но в то же время Петербург дал великую русскую литературу, величие и блеск империи — результаты, воодушевляющие не только верхи, но и низы общества.
Как мыслится желательный образ «определенного ответа»? Бывают ли вообще такие ответы в истории? Если имеется в виду метаисторическая правильность, не имеющая отношения к судьбе страны в истории, то следует выходить в область философии истории, явно заявляя, что жизнь страны подчинена ее идее, цели, люди живут не для себя, а для реализации идеи народа, страны. Тогда Петербург оправдан, ведь несмотря на жертвы он породил русскую литературу. Если эта точка зрения неприглядна и определенность ответа мыслится как отклик на вопрос об успешности выживания, о том, процветает страна или нет, — становится ясно: поскольку мы до сих пор живы, опыт Петра успешен. Если указывается, что петербургская империя развалилась — можно ответить, что история знает вечные народы, но не знает вечных государств, по крайней мере в европейском регионе. Наконец, можно вопрос обратить к будущему: успешность понимать как гарантию дальнейшего существования. В этом смысле история ответов не дает никому, и странно ожидать от кого-либо определенного ответа на вопрос, который лежит в области человеческой свободы. Как дело пойдет, как мы его сделаем, так и будет — и спрашивать тогда следует не про Петра и его опыты, а про наши сегодняшние, вполне повседневные опыты — успешны ли они? Но если мы «с определенностью » не можем указать на «критерии успешности », то мы опять возвращаемся к прежнему вопросу. Как же подобраться к вопросу о цене модернизации?
Видимо, вопрос этот можно сильно упростить, если выяснится, что покупаемый товар — с гнильцой. В самом деле, имеет смысл ломать голову и обсуждать цену, когда мы покупаем что-то очень нужное. А если придти к выводу, что это каприз, безделка, а то и просто вредит здоровью, — вопрос о цене отпадает, тут и копейки жалко.
А. С. Панарин. 1996. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса
Уместно подчеркнуть сомнительность теории модернизации. Модернизация задумывалась как процесс имитации или заимствования незападными обществами западной модели высокопродуктивной рыночной экономики. Однако парадокс процесса модернизации состоит в том, что в результате процесса модернизации происходит не столько пересадка продуктивных типов поведения, коренящихся в протестантской аскезе, сколько внедрение в незападные культуры продуктов декаданса: потребительской психологии, не готовой работать как на Западе, но стремящейся по-западному потреблять.
...Одно дело — вольнолюбие людей, готовых творчески обновлять нормы, другое — вольнолюбие как бегство от норм и ответственности. Вопреки видимости, революционаризм и потребительство сродни друг другу: первый разрушает общество деструктивной активностью ниспровергателей, второе — пассивностью и безучастным отношением ко всему, что не касается материальных благ.
Вестернизация, проникшая с уровня элиты на уровень массового сознания, теряет следы творческого демократического томления. Она представляет коллективное бегство от национальной традиции, ибо традиция обязывает, а массовое потребительское сознание тяготится обязанностями в любых проявлениях. В этой стадии возникает опасность, что вестернизация приобретет характер заимствования преимущественно худших образцов культуры-донора — того, что наиболее доступно неразборчивому восприятию и от чего сама эта культура спешит освободиться.
Далее Панарин отмечает, что постсоветская вестернизация произошла после истребления культурных традиций и культурных элит.
А.С. Панарин. 1996. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса
Вестернизация с самого начала была лишена того благодатного фильтра, с помощью которого страны-импортеры «передового опыта» могут отличать продуктивное и ценное от вульгарного и злокачественного. Постсоветская вестернизация — вестернизация, осуществляемая без творческого соучастия настоящей национальной элиты.
К. Леонтьев. 1884. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения
Высшая степень общественного благоденствия материального и высшая степень общей политической справедливости была бы высшая степень безнравственности (я отделяю нарочно частицу без, чтобы мое слово не поняли в обыкновенном смысле разврата и мошенничеств; я предполагаю, что не будет тогда ни разврата, ни добродетелей: первый не будет допущен, а вторая будет не нужна. Так как все равны, и потому все одинаковы).
Мифологема «вторичной» (вслед за «первичной» — на Западе) вестернизации состоит в ожидании появления в обществе-реципиенте сильного среднего класса, опоры демократии. Этот средний класс склеивает, скрепляет общество. Сильный и многочисленный средний класс выступает как гарант от перерождения демократии в охлократию, а затем в олигархию. Однако А. Тойнби показал, что прямым результатом такой вестернизации является неожиданная и очень сильная «поляризация населения на космополитическое, компрадорское меньшинство приватизаторов, свободных от давления норм собственной культуры... и дезориентированное и дезорганизованное большинство, которое увели от национальной традиции, но так никуда и не привели...». Средний класс оказывается слабым, и демократические процедуры начинают работать против демократии. Средний класс в России действительно слаб, как показало, например, исследование Дилигенского (Дилигенский, 2002), но и на Западе он начинает быстро слабеть.
Тем самым можно предположить, развивая эту точку зрения, что, говоря словами героя Джека Лондона, «эти яйца всегда были тухлыми». Модернизация не ошибается, те издержки, с необходимостью платить которые страны встречаются при движении по модернизационному пути, заложены с самого начала. Модернизация — это машина поляризации мира; в каждой стране возникает резкая дифференциация новой элиты и остального населения, а в мире в целом возникает «разбойное гнездо», «логово» новой элиты, откуда совершаются набеги на остальную территорию планеты. Модернизация оказывается ложным маяком, который приманивает на скалы корабли, проплывающие в бурном море истории, а «модернизаторы» потом собирают добычу. Так развивается эта мысль — от вопроса о цене модернизации до теории «всемирного заговора» модернизаторов, уничтожающих и обкрадывающих наивные модернизирующиеся страны.
А. С. Панарин. 1996. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса
Новейшая волна вестернизации, накрывшая Россию, дала чрезвычайно показательные результаты в качестве всемирно-исторического эксперимента. Оказалось, что даже если она захватывает достаточно развитую в промышленном и образовательно-квалификационном отношении страну (по последнему показателю СССР занимал едва ли не ведущую позицию в мире), результат оказывается тем же самым: всеобщая деморализация, денационализация, предельная социальная поляризация. По меркам великих исторических аналогий, нынешняя вестернизация достигла той же стадии предельного духовного и материального истощения мира, какой ознаменовалась последняя, закатная фаза эллинизации древнего мира. В этой фазе самое время поставить вопрос: чем ответят на этот вызов накрытые волной вестернизации отчаявшиеся цивилизации. Вопрос по-настоящему еще не осмыслен в современной культуре — сказывается инерция прежних завышенных ожиданий в отношении благодетельных возможностей вестернизации. Запад — инициатор всемирно-исторической драмы, пока уклоняется от ответа. Элиты Запада, вместо творческого ответа, предпочли простоту инверсии: экспансионизм Запада как носителя цивилизаторской миссии вестернизации они готовы заменить изоляционизмом в духе традиции «разумного эгоизма». Недавно возникшая концепция «золотого миллиарда» планеты— передового меньшинства, успевающего прорваться в изобильное постиндустриальное общество до того, как капкан глобального экологического кризиса захлопнется, означает не только иссякание энергии творческого дерзания. Она означает, что страх перед чуждым большинством планеты возобладал над универсалистским пафосом эпохи Просвещения. Произошла настоящая социокультурная катастрофа, связанная с закатом общечеловеческой перспективы, неверием ни в успех вселенской миссии Запада, ни в автохтонные механизмы подъема незападных обществ в духе идеологии Прогресса. /.../
Обратимся к проблеме другого ответа — со стороны незадачливых пасынков прогресса, жертв вестернизации. Незападный мир, рассеченный лучом проникающей вестернизации, дифференцируется в зависимости от типов ответа на вызов Запада. Эта дифференциация имеет прямое отношение к геополитическим и цивилизационным прогнозам относительно состояния человечества (материального и духовного) в начале III тысячелетия.
Примечательно: дихотомия «Запад— не-Запад» имеет смысл, несмотря на разнообразие внутри незападного мира. Прежде, в рамках идеологии прогресса, дихотомия отделяла ведущих и ведомых, авангард и арьергард. Сегодня, когда понятие прогресса поставлено под сомнение, дихотомия указывает на различие мира, развивающегося имманентным образом (по собственной логике), и мира, получающего направленное воздействие извне. Главное неравноправие народов пролегает здесь: оно касается не столько экономического гнета, политического, силового давления, сколько зависимости исторического развития.
Одно дело — иметь свою, «домашнюю историю», другое — сталкиваться с чужеродным «демоном истории», осуществляющим неожиданные, непредсказуемые выпады.
Разумеется, отнюдь не все участники нашего диалога шли так далеко в критике модернизации. Однако выше мы видели, что на самом деле критические замечания, до какой-то степени сходные с теми, что дает Панарин, приводят многие. В текстах Панарина мы встречаемся только с более развернутой, детализированной картиной того, как осознается модернизация. Возможно, делаются слишком крайние выводы, однако в любом случае желающим опровергнуть подобную точку зрения надо взаимодействовать с наиболее проработанной и доведенной до логического конца позицией.
Можно отметить, что все эти возражения строятся исходя из аксиомы, что нормальной является иная ситуация, самостоятельное культурное развитие. Можно указать на множество контрпримеров — греки обучаемы египтянами, германцы — римлянами и греками. В последнее время цивилизации стали развиваться свободнее и самостоятельнее, чем раньше (что правильно и закономерно), но жалобы на недостаточную свободу развития все усиливаются. Чтобы быть свободным, надо уметь брать ответственность за свою историю. Пока одна цивилизация питается культурой иной цивилизации, она несамостоятельна (не вполне самостоятельна) и такие жалобы неуместны.
Здесь важен феномен: Пушкин не воспринимается на Западе как великий поэт. И многие другие крупные творцы русской культуры — тоже. Почему? Для западного (культурного) человека их труды звучат отголосками западной культуры. Это для нас Пушкин — солнце, для Запада это не так. Это ничуть не умаляет Пушкина — он действительно солнце, наше солнце, это вполне объективно, но объективность разная для разных субъектов. Наша цивилизация все еще в очень сильной степени связана с западной. В экономическом и политическом аспекте это очевидно; более того, это так и в аспекте культуры. Мы вышли из стадии простого подражания и вступили (только вступили) в стадию «манеры» (по гетевской классификации индивидуальности в искусстве). Впереди — развитие собственного стиля. Только тогда, когда мы будем не только по-своему развивать западные идеи, но и самостоятельно создавать идеи, только тогда мы сможем задумываться об обрыве пуповины, связывающей нас с западной культурой. Другое дело, что те времена, когда культурное доминирование подразумевало и политическое, и социальное доминирование, прошли и не все на Западе это понимают, перенося в современность манеры римско-германской истории.
Так можно было бы возразить, но наивно думать, что эти возражения общеубедительны. Груде примеров можно противопоставить еще большие массы примеров самостоятельного развития цивилизаций (вот хоть в Америке, в Австралии — хотя они, кажется, плохо кончили). Представления о сильной зависимости «великого золотого века» русской культуры от западных идей не встречают противодействия, только когда высказаны очень осторожно, в специальных работах и с массой оговорок, в явной форме они, конечно, найдут квалифицированных критиков. Короче, с развиваемой Панариным теорией «вредной модернизации» можно спорить, но и возражения на нее в свою очередь будут оспорены.
Интересно обратить внимание на яркую черту теории, развиваемой Панариным. Другие критики модернизации не доходят до конца в развитии своей позиции и потому не проговаривают замечательный тезис: получается, что модернизация несет всем странам зло, это социальный механизм, специально (и с очень большой мудростью) задуманный для того, чтобы разорить людей, снизить их культуру, поставить на колени и сделать еще много разных пренеприятных вещей. Кто же это постарался? Претенденты на роль организатора столь массовых действ известны: Бог, дьявол, мировая закулиса. Однако Панарин предпочитает высказаться несколько иначе.
А.С. Панарин. 1996. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса
Словом, мир выступает как драма, не имеющая режиссера и развивающаяся исключительно как непредугаданный итог взаимных реплик участвующих персонажей.
Все же кажется, что драма без режиссера — не драма, а балаган. Одно из двух: либо режиссер есть (который, возможно, является очень современным и ставит драму, в которой актеры много импровизируют), либо высокое слово «драма» тут лишнее, оно придает высказыванию ложный смысл.
Далее Панарин указывает, что «модернизационная ситуация» не может быть прочитана на языке «теории прогресса».
А. С. Панарин. 1996. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса
Наряду с «вызовом пространства», искажающим логику линейных эволюций, действует не менее серьезный вызов времени. Для судеб страны, цивилизации вовсе не безразлично, когда она стартовала на дороге прогресса. Дело в том, что «пришедшие позже» застают совсем другие условия соревнования, чем их предшественники. Как в биологическом мире: ранее сложившиеся виды могут тормозить развитие новых. Всемирно-историческое развитие выступает в формах, существенно отличающихся от картины автоматически действующего прогресса, нейтрального в культурно-психологическом смысле и равно открытого /.../ для всех.
Новизна ситуации, в которую попало человечество на рубеже II—III тысячелетий н. э., состоит в том, что при сохранении прежних критериев прогресса, определившихся в Новое время (в посттрадиционную эпоху), он уже не может выступать универсальной категорией, объединяющей человечество.
Можно видеть, как сильна вера в прогресс — уже сказав, что это ложная вера, что прогресс есть довольно зловещая выдумка разлакомившихся и плохо мыслящих историков, — все равно к нему взывают, как к истинному божеству, которое отвернулось от верующих, но, может, еще вернется... Обратит лицо свое...
Мнение Панарина сводится к тому, что против модернизации бессильны все приемы, кроме культурного преобразования Запада. Когда две тысячи лет назад противостояли друг другу Рим (Запад) и Восток, последний породил соцветие мировых религий и смог преобразовать Рим, так что неуспех стран Востока сверхкомпенсировался успехом Восточной культуры; Рим стал иным (восточным?), человеческая история поменяла русло — это и был ответ Назарета (Востока) на модернизацию. Поэтому и сейчас Панарин ожидает чего-то подобного.
А.С. Панарин. 1996. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса
На рубеже II-III тысячелетий, как и когда-то, на рубеже старой и новой эры, у Востока есть только один шанс достойно ответить на вызов Запада: преобразовать его духовно, преобразуя вместе с ним и самое себя и все человечество. Стратегия успеха— «догона», «перегона», «ускорения» — всего лишь путь эпигонства, малоэффективный с позиции более высокого порядка.
Может быть, все же придется признать, что такое представление слишком поспешно — не в смысле логической неправильности, а в смысле исторической периодизации. Возможно, не все почвенники согласятся измерять масштабы необходимости человеку христианской религии — в единицах компенсированной вестернизации. По сути, Панарин высказывает достаточно традиционную (с Чаадаева и Соловьева) для русской философии точку зрения, что Россия имеет великое будущее в человеческой истории и ей суждено в духовном отношении спасти Запад, который в материальном мире, во внешней истории выигрывает, неотвратимо попадая в ловушку метаисторическую, в тупик материальной цивилизации. Мысль сильная, но масштаб ее несоизмерим с предметом обсуждения. Пример: маленький мальчик, получая двойку за незнание урока, утешается тем, что ему суждено большое будущее, что, когда он вырастет, учитель будет уже совсем старенький и беспомощный. Это правда, но к невыученному уроку отношения не имеет. Так и здесь: если счесть мысль о роли России в будущей истории верной (в любом случае, здесь не место обосновывать эту идею, достаточно того, что она высказана), это тем не менее не имеет отношения к нынешнему кризису России, к ее пути в ближайшие десятилетия (и столетия). Глядя правде в глаза, следует сказать, что сейчас мы не можем предложить Западу никакой культуры и никакой духовности, способной вывести его из трудного положения. Нашей большой задачей является такое развитие, чтобы мы могли когда-нибудь высказать такую идею — для себя, для Запада и для прочего человечества, но дистанция до этого чаемого результата такова, что пока не удается увидеть даже самый общий абрис этой идеи. А нашей малой, сегодняшней задачей является разрешение сегодняшних трудностей, о которых и говорят при обсуждении соотношения России и Запада, и к той большой проблеме эта задача имеет лишь то отношение, что нам надо решить эту мелочь, иначе у нас не будет возможности решать что-либо в дальнейшем.
А.С. Панарин. 1996. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса
Тойнби далеко отодвинул сроки новых религиозных реформаций (к 3047 году. — Л.Б., Г.А.), идущих, как и все великие религии, с Востока на Запад. Он писал в эпоху, еще не знающую близости конечного предела, связанного не только с глобальным экологическим кризисом, но и с предельной «порчей» человека, на наших глазах перерождающегося в опаснейшего разрушителя общества и культуры, попирающего нормы, заповеди.
Здесь следует сделать замечание, относящееся не столько к данному тексту Панарина, сколько к множеству похожих по смыслу высказываний. Часто говорится, что наш кризис — очень страшный и потому самое время доброй матушке-истории выпустить на волю наши потаенные от нас самих силы и позволить нам уже сейчас спасать человечество, поскольку сил терпеть у нас уже не осталось. Это как раз идеология людей, не прошедших через серьезные испытания. Эти люди верят, что хуже быть не может; верят, что выпавшие на их долю испытания — свыше сил человеческих и что есть добрая история, которая за них все обеспечит, — как будто не было сотен поколений, так же не веривших в возможность погибели для себя и уповавших на то, что чудо остановит завоевателя, палача, землетрясение и изменение традиций.
Такие высказывания грешат не только некоторой нетерпеливостью и несерьезностью, они опасны еще в другом смысле. На исходе Первой мировой войны в обществе тоже поднялись настроения, что хуже быть уже не может, поэтому можно смело выбирать любой путь — он обязательно поведет к спасению. И по сравнению с выбранным на том переломе путем все трудности Первой мировой воспринимаются как милые бабушкины сказки. Представьте себе: первые танки, еще штучного выпуска, первые образцы автоматического оружия, самолеты особо продвинутыми армиями используются в основном для разведки, а у прочих еще непонятно, зачем они нужны, конные корпуса, играющие серьезную роль в сражении... Современникам было очень страшно. И они сделали свой выбор, мы живем его последствиями.
Однако правда не такова: на Земле уже были экологические кризисы и периоды ужасной «порчи» человека и мы живем в мире, который наследует всем этим неприятностям. Это не значит, что у нас все хорошо, — нисколько, мы действительно живем на крутом переломе времен, правда только в том, что были уже крутые переломы и будут в дальнейшем и с этим переломом справляться придется нам какие есть, а не нам, магически обретшим неведомые самим силы и «даром» вылезшим в спасители человечества. Если есть чем спасать, просьба предъявить, — а нет, так следует делать обычные человеческие дела, не записывая себя до срока в основатели новой религии.
Вл. Соловьев. 1888. Россия и вселенская церковь
Вот уже сорок или пятьдесят лет, как русский патриотизм упорно повторяет, варьируя ее на все лады, неизменную фразу: Россия велика и на нее возложена величественная миссия в этом мире. В чем собственно состоит эта миссия и что России должно совершить, — что мы должны сделать, — чтобы выполнить сказанную миссию, — это представляется доселе крайне смутным.
В связи с грозящими кризисами Панарин предлагает, по сути, новую теорию общества, предлагает подойти к обществу как к сложной системе — вместо сверхустаревшего подхода к нему как к машине.
А. С. Панарин. 1996. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса
Дезорганизация несет опасность перехода некоторой границы необратимости, после чего общество, сообщество уже не в силах задержать сползание к распаду, катастрофе. /.../ Осознание дезорганизации как подлежащей разрешению обобщенной проблемы означает, что именно здесь следует искать объект реформаторской деятельности.
Долгое время в общественных науках преобладал определенный подход к обществу, который можно обозначить как «инженерный». Общество рассматривалось как механизм, специальным образом устроенный для выполнения определенных функций. Интеллектуальные и властные лидеры любые проблемы в обществе рассматривали как механик рассматривает поломку машины: с точки зрения починки. Отсутствие или недостаток по какому-либо параметру воспринимались как побуждение увеличить производство недостающего или встроить в общество новую деталь, которая будет функционировать заданным образом. Однако механизм — это система, сознательно построенная человеком для выполнения определенных целей, собственных целей у нее нет, она предназначена для функционирования, а вне функционирования бессмысленна. Общество не относится к таким системам: ее не строил индивидуальный разум, и сознательных решений относительно целей общественного устройства принималось весьма немного. В этом смысле можно сказать, что никакой цели у функционирования общества нет, кроме самой общей: самосохранения, выживания. К обществу неприменимы инженерные подходы — хотя это не означает, что обществом нельзя управлять, нельзя на него воздействовать. Просто это должны быть воздействия иного рода, чем инженерные воздействия. Так, дестабилизация какой-либо функции в машине требует ремонта детали, отвечающей за эту функцию, «завертывания гаек», чтобы уменьшить «шум». Это «элементарное» действие, исходящее из предпосылки, что у каждой детали машины есть своя функция и при нарушении функции надо исправить отвечающий за нее элемент. Общество работает по системным законам, и при нарастании дестабилизации следует применить системное стабилизирующее воздействие. Специфика его в том, что как раз ремонтировать ничего не надо — ремонт есть добавочное вмешательство в систему, ухудшающее ее положение.
Приходя к пониманию необходимости построения такой новой теории общественных взаимодействий, мы видим, что и концепция взаимоотношений Запада и Востока, западников и почвенников нуждается в существенном переформулировании.
Ю. С. Пивоваров, А.И. Фурсов. 1998. Екатерина II, Самодержавие и Русская Власть
Здесь едва ли стоит всерьез заниматься критикой теорий «традиционного общества» и «модернизации» (а еще раньше— «стимул»— «реакция») — vixerunt; по поводу самих этих теорий, притягательных в простоте своей и своих бинарных оппозиций, на их руинах и даже на надгробиях написано в 1960-1970-е годы уже много, и предоставим мертвым хоронить своих мертвецов. Выскажем лишь одно соображение общеаналитического характера, которое важно для дальнейших рассуждений. Речь идет о проблеме принципиальной правомерности противопоставления традиции и современности как прошлого и настоящего и об отождествлении в современной эпохе некапиталистических (докапиталистических) форм с «традицией» и капиталистических (причем в их наиболее развитом варианте, представляющем ядро Капиталистической Системы)— с «современностью». Прошлое и «докапитализм» как некапитализм, с одной стороны, и настоящее и капитализм — с другой, не обязательно автоматически оказываются «традицией» и «современностью» по отношению друг к другу и уж тем более не являются взаимонепроницаемыми целостностями. /.../ Этому исключению традиционных черт из современности соответствует исключение современных — из традиции. Методологический результат — аналитический разрыв между традицией и современностью. /.../ Мы уже не говорим о том, что сама «традиция» чаще всего определяется как негатив «современности», как отсутствие каких-то качеств, их неразвитость. Абсолютизация подобного подхода приводит к нонсенсу типа «традиционный и отсталый Древний Египет» и т.п.
Разумеется, нельзя сказать, что высказываемые Ю.С. Пивоваровым и А.И Фурсовым взгляды являются общепринятыми. Речь о другом: прежние теории общества все большему числу исследователей кажутся неудовлетворительными и даже люди, говорящие на разных научных языках и не согласные между собой по очень многим вопросам, начинают — с разных сторон, в разных терминах — строить нечто, за чем мы уже можем проследить контуры единой теории.
Ю. С. Пивоваров, А.И. Фурсов. 1998. Екатерина II, Самодержавие и Русская Власть
В определенных обстоятельствах капитал функционирует как некапиталистическая, традиционная (неотрадиционная) форма, что еще более сужает объяснительные возможности модернизационных схем. /.../ К концу XIX в. Капиталистическая Система пришла с большим количеством докапиталистических по содержанию укладов, чем их было, например, в XVIII в. /.../ Капитализм реализует себя не в качестве однородной системы, а в качестве мировой многоукладной системы. Логически и исторически капитал как понятие и реальность развертывается в многоукладную структуру капиталистической системы отношений, в которой синхронными и конкурентными оказываются, например, две современные, но диахронные в европейском развитии формы,— первоначальное накопление капитала и капиталистическое накопление. /.../ На самом деле многое, если не большая часть, так называемого «традиционного» современной эпохи, эпохи капитализма, является функциональным негативным (или консервативным) элементом или даже продуктом капитализма и представляет собой иную, внешне несовременную (но не становящуюся от этого традиционной) форму Современности. /.../
Мы согласны с теми историками, которые считают символичным совпадение «прорубания окна в Европу» с окончательным оформлением крепостничества при Петре I /.../ Но все же доминирующей была русско-системная линия, ни в коем случае, повторим, не являющаяся традиционной и противостоящей модернизации. Если уже пользоваться этими терминами (разумеется, как метафорами), то приходится признать следующее. Логично именно крепостничество считать с конца XVI в. русской «модернизацией» тех порядков, которые сложились в XV-XVI вв. и на уничтожении, переломе которых взращивалось самодержавие; крепостничество с этой точки зрения — одна из форм Русского Модерна — самодержавно-крепостнического.
Итак, теория «стимул — реакция», теория вестернизации и отчасти модернизации — это вчерашний день, это прошлый век, о котором специалисты отказываются говорить серьезно. А что же теперь модно? Из соответствующих текстов мы можем узнать, что «модно» — «модерново», современно теперь рассуждать о противопоставлении Север-Юг, глокализации, концепции «золотого миллиарда», мир-системном анализе и еще нескольких менее известных глобалистских концепциях. Не то что это «последнее слово» — это крупные, десятки лет развиваемые и известные концепции, но они, хоть и не являются «последним писком», все же не третируются как «безнадежно устаревшие».
Если мы попытаемся, не смутившись своей неграмотностью, понять, что же заставляет отвергать все те теории, которые мы до сих пор обсуждали, что делает неверными разговоры о вестернизации и переводит в разряд забавных недоразумений ушедших веков весь спор западников и почвенников, — мы выясним следующие вещи. Основная претензия к «местечковой» оппозиции традиция-модернизация: многие страны Вос-тока, модернизируясь, вовсе не становятся Западом, а лишь переходят в некое новое качество — Юг, хотя модернизация в них и происходит; все чаще речь идет не о культуре, а о выживании и благополучии, и здесь не до традиций с модернизациями, а до жирного куска, который определяется экономически: Север; все чаще Европа и/или Япония рассматриваются как противовес США или, по крайней мере, самостоятельный игрок — тогда следует говорить о двух Западах, а точнее — об игроках партии Севера.
Ю. С. Пивоваров, А.И. Фурсов. 1998. Екатерина II, Самодержавие и Русская Власть
Крепостничество как в Восточной Европе, так и в России XVI-XVIII вв. (равно как и плантационное рабство в южной части английских колоний Северной Америки и островов Карибского моря) ни в коем случае не является ни «традиционным укладом», ни «пережитком традиционной эпохи», с которыми борется «модернизация». Это продукт все той же Современности, все того же Модерна, только в другой, чем западноевропейское ядро, зоне современной (modern) мировой системы. Это — общая характеристика рабства и крепостнической эпохи Современности.
В этой связи не удивительно, что, подобно тому, как Г.П. Федотов обосновал конец интеллигенции, Ю.С. Пивоваров также приходит к выводу, что славянофильский спор начался в начале XIX века, примерно с Карамзина, определившего основные концепции русской истории (ее трактовки и мифы), и закончился к середине XX века, когда этот спор завершился Бердяевым и евразийством.
Тем самым мы вновь возвращаемся к уже неоднократно затрагиваемой теме: существует ли сейчас спор западников и почвенников — как современный идейный спор, а не как полуграмотное повторение задов истории? То, что мы излагали выше, то столкновение позиций, которое мы видели на форуме, — это пустое «повторение пройденного» или новый этап старого спора?
Судить об этом предоставляется читателю. Видимо, основных точек зрения будет две: одна — в согласии с Пивоваровым и другими — сочтет многие высказанные точки зрения безнадежно устаревшими. Другая проследит эволюцию идей: во второй половине XX века было краткое и искаженное повторение спора в противостоянии позиций Сахарова и Солженицына, искаженное тем, что основным вопросом здесь было не отношения России и Запада, а противостояние коммунизму, в котором Сахаров в большей степени опирался на идеи правового государства западного типа, а Солженицын — на почвеннические настроения. Следующий этап — современный, где в силу спазма, который испытала русская культура, одни еще повторяют основные моменты спора западников и славянофилов — на всем его протяжении, от ранних славянофилов до евразийства, а другие уже вышли на современный уровень постановки проблем в связи с понятиями Севера и Юга, глобализации и проч.
Далее в своей работе Пивоваров и Фурсов утверждают, что частная собственность есть западная политико-экономическая технология, которая в России работала в XIX веке, но: использовалась для решения иных, чем в Европе, задач, охватывала не все общество, причем и охваченную часть — лишь частично, и охватывала их не субстанциально, а функционально. Поэтому огромное количество теорий и идеологических схем, разработанных западными теоретиками, просто неприменимо для описания того, что происходит в России. Язык этих теорий маскирует истинные процессы. Авторы высказываются за построение всего комплекса заново — новой теории общества, новой концепции русской истории, новой теории русской власти.
Ю.С. Пивоваров, А.И. Фурсов. 1998. Екатерина II, Самодержавие и Русская Власть
Сложность проблемы усугубляется тем, что, во-первых, логика развития Русской Власти (в форме самодержавия) и Русской Системы в целом в определенный момент привела Систему к расколу на два «склада жизни» — (властно-)дворянский и крестьянско-популяционный (быт и французский язык довели остроту противостояния почти до этносоциальной); во-вторых, один из этих складов — дворянский (он стал в 1762 г. привилегированным и автономным от популяции), начал жить автономной жизнью и «модернизироваться» уже не на русско-системный, а на капсистемный, буржуазный лад; произошла интериоризация западного Модерна в Русскую Систему. Перед нами, таким образом, столкновение на русской почве двух модернов, Современностей, «модернизаций». Именно столкновение и именно двух разных «модернизаций», а точнее двух вариантов, потоков современного развития обусловили вектор и специфику развития социальных процессов в России от пугачевского бунта до октябрьского переворота Ленина и Троцкого /.../.
Более того, такие «букеты» новых концепций следует выстроить по поводу каждой национальной истории, и только после этого стоит говорить о каких-то серьезных попытках построения теории всемирной истории. До тех пор, пока такие частные истории, независимые от западных исторических теорий, не построены, все концепции модернизации, глобализации и следующие за ними — пустой звук, преждевременные и необоснованные обобщения. Тем самым мы начали с критики вестернизации в пользу глобализации и других современных концептов. А пришли, вместе с рассуждениями Пивоварова и Фурсова, к представлению о научной необоснованности этих современных теорий, об отсутствии у них подлинного исторического, социологического, политологического фундамента. Весь комплекс социоисторических наук надо строить заново, утверждают упомянутые авторы.
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 15255
Другие книги
- М. С. Беленький. Что такое Талмуд
- Михаил Агурский. Идеология национал-большевизма
- Иоханнес Рогалла фон Биберштайн. Миф о заговоре. Философы, масоны, евреи, либералы и социалисты в роли заговорщиков.
- под ред. М.Б. Митина. Личность в XX столетии
- Джордж Моссе. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма
Редакция рекомендует
- Отмена лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" в декабре 1941 г.
- Россия и Болгария: между "войнами памяти" и поиском совместного прошлого
- Как преподают военную историю за рубежом?
- Рождественские постеры австралийской, британской, германской компартий
- Образ врага в советских исторических фильмах 1930-1940-х годов
- "Убей немца" в советской пропаганде