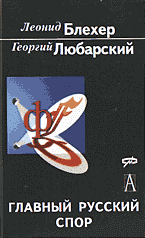Казалось бы, естественно выбрать в качестве основных понятий, описывающих логику спора, самые ходовые в нем слова— «Европа», «духовность», «прогресс», «державность», «цивилизация», «Россия»... Но мы сразу обнаруживаем, что эти центральные понятия спора определены очень нечетко, что хорошо осознают сами участники (см. часть 1).
Действительно, вопросы терминологии в спорах между западниками и славянофилами занимают большое место. В самом деле, сотни и тысячи страниц посвящены обсуждению того, как плохо не определять рациональным образом духовность или соборность, или тому, как нехорошо некритически пользоваться понятием «прогресс» в качестве самоочевидного.
Надо заметить, что в последнее время Ю.С. Пивоваровым была высказана еще более критическая — ив этом смысле пессимистическая — точка зрения. Он считает, что для каждой «цивилизации», «культурного круга», а в приложении к интересующим нас вопросам — к России и к Европе, — следует выработать свой круг понятий. Ю.С. Пивоваров говорит, что «история России » есть непереводимый европеизм, такой области знания существовать не может, поскольку все понятия истории, выработанные на европейском материале — нация и государство, революция и парламент, прогресс и стагнация, — неприменимы к русской действительности, которую должно изучать «россиеведение».
Современная наука об обществе возникла на Западе и, вполне естественно, оперирует понятиями, отражающими его реалии последних 400-500 лет: «капитал», «государство», «класс», «нация», «идеология». ... Ясно, что для иных, чем названные, субъектов такая форма рациональной авторефлексии не годится, не работает, искажает реальность. Первым шагом на пути к рациональной теоретической рефлексии конкретного некапиталистического типа должно быть определение системообразующего элемента данной системы, реального субъекта данной системы... В русской истории начиная с XVI в., а еще точнее — с ордынских времен, таким системообразующим элементом была Власть (Пивоваров, Фурсов, 1998а, с. 61-62).
У россиеведения должны быть свои понятия — не революция, а Смута, не парламент, а Дума, не государство, а Власть. Дело, конечно, не в замене слов; утверждается, что революций в России нет, а есть отчасти похожие явления, которые следует изучать отдельно, выявлять их закономерности и именовать смутами, чтобы не путать с европейскими реалиями.
Эту власть нельзя редуцировать к государственности, как и русское понятие «правда» нередуцируемо к истине — слишком мелко (Пивоваров, Фурсов, 1998а, с. 62).
К сожалению, это методологически красивое заявление пока не подкреплено реальной расшифровкой «русских исторических терминов», нет и списка понятий, нуждающихся в такой расшифровке. Однако необходимость такого рода работы действительно велика и диктуется не пуризмом исторической методологии, а путаницей, царящей во вполне реальной действительности.
Большое число участников нашей дискуссии подчеркивает, что основной вопрос заключается в том, как приспособить работающие на Западе социальные механизмы таким образом, чтобы они работали и в России (см. главу 3). Для этого, действительно, стоит изучить, как «одни и те же» понятия по-разному понимаются и используются, тем более, что это понятия, имеющие прямое отношение к нашему диалогу. Сам «воздух» диалога западников и славянофилов пропитан соотношением национальных понятий — в их столкновениях, непониманиях и неприятиях, союзах, соглашениях...
Попробуем взглянуть на особенности жизни одних и тех же понятий в разных культурных регионах. Например, при изучении американской литературы можно обнаружить, что свобода в американском понимании есть очень практичная вещь, вещь, нужная по хозяйству. К ней неприменимы высокие слова о долге и идеале — это пустопорожняя болтовня, а свобода есть вполне практическое изобретение, используемое в определенных социальных, экономических и политических машинах, деталь, обладающая определенными свойствами. Не более и не менее — и потому неуместно к свободе «стремиться» и «разочаровываться», «жаждать» и «постигать» — ее надо сделать и использовать.
Совсем иное отношение к этому понятию развилось в Западной Европе. Здесь свобода действительно была идеалом, была тем, на что человек — или общество — должны смотреть снизу вверх, стремиться, не достигая, воплощать, не надеясь на окончательный успех. Здесь свобода — не деталь реально работающей социальной машины, а идеал, к которому эта социальная машина стремится. И еще иное отношение к свободе восточнее, в России.
Чтобы понять, что происходит с русской «свободой», обратимся сначала к более известному примеру. Часто утверждается, что европейская «истина» не равна русской «правде»; в приблизительном переводе обычно говорится, что правда есть «истина + справедливость». Это верно — для перевода, чтобы примерно схватить не знающему реалии человеку, о чем идет речь. Кислород и водород дают новое качество, а не смесь, истина со справедливостью дают не «+», а правду.
В понятии «правды» к истине, представляющей собой нечто от человека не зависящее, существующее само по себе, добавляется нечто из области устройства общества; можно сказать — к истине добавляется право. С точки зрения европейца, это неправомерное смешение понятий, добавление к одной, вполне самостоятельной идее, другой, которая работает в совсем ином понятийном окружении. Для европейца право — это из области договоренности, взаимного соглашения. Для русского языка это необходимая составляющая правды. Европеец недоумевает, как можно быть настолько некритичным, чтобы не заметить, что нельзя договориться об «истине в последней инстанции», ведь она по определению находится вне области человеческих договоров. Истины природы, истины «положения дел, которое мы застаем в объективном мире» не являются предметом договоренностей. Русская «правда» непостижимым образом утверждает, что «право» столь же фундаментально, как «природа »; образуется невозможный смысл — «правда », — который существует, хоть и невероятен.
То же самое происходит с идеей свободы. Европейская свобода в понятийном мире России почти не существует. То, что здесь существует, можно — опять же, крайне приблизительно — описать как «волю». Воля = свобода + самопринуждение («вольный» и «волевой»). Характерно, что на русский европейская «свобода » переводится как «свобода от + свобода для», то есть для европейской свободы в русском нет термина — так же, как для русской свободы нет слова в Европе.
Самопринуждение, упорство в достижении своей цели, способность преодолевать препятствия есть термин психологический или этический, есть нечто, что относится к интимной глубине человека, то, что у разных людей настолько варьирует, что вставлять эту переменчивую и спорную область в общественное понятие свободы бессмысленно. А в русском дискурсе эти понятия — общественной свободы («простора») и внутренней воли («силы») — сливаются в одно значение.
Разумеется, эти значения слов не говорят о том, что в соответствующих обществах все устроено «согласно понятиям»: нельзя сказать, что в американском обществе нет несвободы, раз в понятии свободы предусмотрено точное функционирование механизма; нельзя сказать, что вся система европейского общества непрерывно только и делает, что стремится к свободе, нельзя сказать, что в русской жизни уже имеется идеальное слияние свободы и самодисциплины. Различия в языке указывают путь, которым «хотят» развиваться данные вещи, а не реальное, готовое состояние. Небольшой пример: обсуждение соотношения европейской «свободы» и русской «воли» имеет давнюю историю, об этом писали Бакунин, Бердяев, Федотов, Померанц... («Европейская свобода и русская воля» — Померанц, 1998, с. 487-501). И почти всегда утверждалось, что «свобода» — это европейское понятие, включающее и уважение к праву другого человека, а «воля» — разбой и беспредел, буйство желаний, не знающих удержу. Так философы обсуждали русскую волю, не упоминая об очень простом выражении: «сила воли». Смысл, очевидно содержащийся в русском слове, при анализе этого слова таинственным образом ускользал — и это ускользание не случайно. Смысл уклонялся от прояснения, потому что в реальности России русский язык еще не до конца реализован, потому что в русской истории гораздо легче найти примеры вольного шатания, чем волевого упора (отличного от своеволия деспотии). Но слово есть, и оно преобразует характеры людей и реальность истории. Преобразует — если успеет.
С большим количеством понятий, важных для построения американского и европейского общества, происходит подобная история. То, что на западе Европы и в Америке есть вполне практичное изобретение, деталь «общественной системы», в Средней Европе есть идеал, к которому данная общественная система стремится, а в России то же понятие существует с определенной «добавкой», вовлекающей в орбиту «чистого» европейского понятия нечто из другой сферы. Например, вопрос о том, что такое интеллектуалы (интеллигенция) звучит для француза в виде «Существует ли интеллектуальная власть?» (Charle, 1990); в Средней Европе речь идет об образовании человека, его формировании, обретении им истинной формы (Bildung). В России же, помимо скопированного в Германии образования и во Франции просвещения, существует и древняя традиция выражения этого смысла — просветление личности есть святость (Сдвижников, 2001, с. 31-55). Во Франции образование порождает науку, которая мыслится как государственная служба («служение науке приравнено к службе государству и служению Франции» — Charle Ch. 1995. — цит. по: Сдвижников, 2001). Так образование и просвещение оказываются на западе Европы тесно связанными с функционированием общественного механизма, государственной машины. В Германии образуется научно-исследовательская парадигма, способ функционирования науки, основанный на принципах универсальности и свободы. Тем самым в Средней Европе «образованность» становится скорее идеалом, к которому стремятся отдельные личности, и в этом стремлении они образуют общественно значимый феномен — науку.
В России же образование приобретает расширительный смысл: «В понятии образования отразился средневековый онтологизм — ощущение устроенности, укорененности человека в определенном месте бытия, и в этом смысле калькирование с немецкого было узнаванием «своего чужого». «Образование», как и Bildung, обозначает ведь и процесс, и результат обучения, совокупность полученных знаний и в этом смысле имеет некий нюанс законченности, совершенности, отсутствующий во франко-английских instruction и education» (Сдвижников, 2001, с. 47). К среднеевропейскому представлению о сформированном, образованном человеке в России примешивается еще добавочный смысл «совесть общества», «соль земли» (интеллигенция). Опять мы видим, как прагматичное западноевропейское понятие выступает в Средней Европе как идеал, а в России обогащается еще одним, дополнительным и как будто не связанным с основным пучком значений смыслом. Соответственно, в статье «06разованщина» Солженицын писал о смерти языковой оболочки понятия и необходимости нового слова, образованного «не от «понимать, знать», а от чего-то духовного».
Эту особенность развития понятий в разных культурных кругах ощущают славянофилы, иногда допуская, впрочем, неправильность в формулировке этой особенности. Славянофилы заметили, что то, что предстоит человеку Средней Европы как некий идеал, найденный на вершинах интеллектуального вдохновения, для человека России выступает как нечто вполне свое, родное, едва ли не привычное и обыденное; то, до чего Европа старается дорасти, в России выступает как подаренное, уже имеющееся в культуре и языке. Одним из результатов такого соотношения языка и культуры в России оказывается то, что построить богатую и интересную «философию русского слова» оказывается возможным (Бибихин, 2002; Колесов, 2002), а истории русской философии — от Шпета до Зеньковского — выглядят весьма бледно.
Однако было бы совершенно неверно делать отсюда вывод, что в реальном общественном устройстве Россия каким-то образом обогнала Европу, что ей нет необходимости ничему учиться и следует лишь вернуться к чему-то у нее имеющемуся. Это совсем не так; правильнее будет сказать, что устройство российского общества далеко не доразвилось до того, что уже присутствует в русском языке и культуре. Исходя из этой ситуации, возникают разные варианты. С одной стороны, Россия имеет возможность учиться у Запада, усваивая свое, выстраивать реализации не под чужие идеальные конструкции, а под собственные импульсы, — но это не означает, что такое развитие и учение окажется чем-то легким. С другой стороны, возможна и такая постановка вопроса, что исходное устройство русской культуры позволяет ей развиваться из собственных импульсов, не обращаясь к заимствованиям из европейской культуры. Вне зависимости от того, каким будет решение этого вопроса — учиться у Запада (своему) или развиваться совсем самостоятельно, — следует выделить важный смысл таких сопоставлений: отношение языков и развития народов не одинаково. Скажем, французы находятся на уровне своего языка, они соразмерны идеям языка. Отношения русского народа с его языком не таковы: у нас язык «на вырост».
В чем же тогда проявляется это особенное отношение к подобным понятиям в России? Принято думать, что возможны два варианта. Либо все описанное является выдумками и фантазиями, не имеющими отношения к трезвым ценностям жизни вроде доллара и социального успеха, либо, если Россия и в самом деле стоит в особом (описанном выше) положении к европейским идеалам, надо указать, в чем эти идеалы в России овеществлены. Так, славянофилы (да и западники — см. раздел «Общинность и коллективизм» в 1-й части книги) указывали на общину как на «готовое» идеальное общество, на православие, как «готовую» идеальную форму вероисповедания и некоторые другие вещи, подтверждающие призванность России уже в настоящем, в готовом и сложившемся варианте. Однако дело обстоит несколько иначе. Та особенная близость русской культуры к описанным проблемам, о которой говорилось выше, проявляется не в имеющихся социальных установлениях — следовало бы сказать, что вовсе не в них, а в самом факте происходящих дискуссий, того очень личного настроя, в котором происходит обсуждение этих проблем в России. Так было в XIX веке, и то же можно наблюдать сейчас. Если попытаться найти что-то подобное таким дискуссиям на Западе, в Европе и Америке (Berlin, 1978; Gleason, 1980; Mendel, 1961; см. также The Russian Intelligentsia, 1961), можно убедиться, насколько отличается дух таких дискуссий, насколько он в России более личный, заинтересованный и горячий. На это можно сказать, что этого чрезвычайно мало, что заинтересованность на хлеб не намажешь, а реальная практика решения стоящих перед Россией вопросов показывает, что решаются они в России очень неуспешно. Это верно; но ведь и не утверждалось, что такое особое отношение к данным вопросам в России «много дает», утверждалось только, что такая особенность имеется. Насколько удачно она используется — это совсем другой вопрос.
Итак, проблема не только в том, что внутри спора западников и славянофилов четко не определены многие основные понятия. Дело усугубляется тем, что в разных культурах понятия имеют различные круги смыслов. «Кирпичики» высказываний — понятия — оказываются разнородными, так что даже внешне похожие суждения могут быть выстроены из принципиально разных «кирпичей ». Чтобы справиться с этим многообразием, нам требуется перейти от молвы к глаголу: к более общей точке зрения. Надо ввести некую ось координат, на которой размещаются входящие в столкновение системы взглядов.
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 5184
Другие книги
Редакция рекомендует
- Отмена лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" в декабре 1941 г.
- Россия и Болгария: между "войнами памяти" и поиском совместного прошлого
- Как преподают военную историю за рубежом?
- Рождественские постеры австралийской, британской, германской компартий
- Образ врага в советских исторических фильмах 1930-1940-х годов
- "Убей немца" в советской пропаганде