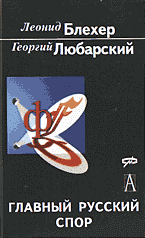Итак, мы в самых общих словах описали развитие системы. Оказывается, не существует одной выигрышной стратегии устойчивого существования. Стратегии приходится менять, приходится пробовать, придумывать, творить... Какую бы одну определенную стратегию мы ни выбрали, в ней обнаружатся роковые недостатки. Значит, нам надо понять. Как система воспринимает новизну, как она учится.
Совокупность устойчивых связей системы образует некоторый архетип (структуру), характеризующий систему. Воспринятая новизна сначала лишь слабо связана с другими элементами системы, не входит в архетип, образуя стиль — поверхностную «окраску» системы. Со временем элементы стиля все прочнее связываются с архетипом, «прокрашивают» его; стиль переходит в архетип. Во все большем количестве взаимодействий со средой стилистические и архетипические элементы выступают как единое целое. Со временем оказывается, что разница в устойчивости связей пропала, стиль слился с архетипом. Новые воздействия на систему к этому времени образуют на ее поверхности новый слой стилистических элементов. Например, картофель был в XVII веке «новой едой», против которой протестовало традиционное общество, а в XX веке новой едой является «бигмак», ревнители же старины вряд ли смогут указать с точностью, чем питались на Руси до XVII века. Картошка стала традиционной и более не вызывает нареканий. В этом смысле, с точки зрения усвоенной новизны, система напоминает «луковицу»: сверху лежат все более рыхлые и слабо связанные слои, затем слои становятся все плотнее, связываясь в целое.
Россия — луковица. Цельность луковицы — это единство всех ее слоев. Каждая попытка отбросить что-то как наносное (или устаревшее) разрушает целое (Померанц, 1998. Вокруг предвечной башни. С. 538).
Взаимодействие новых западных заимствований с традиционными структурами России происходило путем наслаивания первых на вторые. То есть некоторый пласт заимствований обосновывался в России, постепенно «приживался» и начинал рассматриваться как нечто свое, традиционное — особенно по сравнению с новым, поспевшим пластом. Тем самым российская традиция во многом напоминает «луковицу», в которой более глубокие слои представляют собой наиболее старые заимствования.
Это очень упрощенный взгляд, который можно приблизить к действительности, указав на следующие моменты. Все слои существуют одновременно, они не уходят в прошлое, а встречаются и сталкиваются между собой в современности. Эти слои частично разнесены по разным регионам и разным группам населения, но в основном представлены все вместе в одном сознании «среднего россиянина». Поэтому «слоеный пирог» мировоззрений и принципов проявляется как в общественном, так и в личном мировоззрении. (Сходные мысли высказывались уже давно, родилась даже концепция «анахронистического общества », которую выдвинул Филипп Хаузер в 1963 году.)
Слои заимствований, живые сейчас и вполне идеологически активные, не просто сосуществуют, а реагируют друг на друга. При возникновении нового пласта заимствований выясняется, что заимствования эти попадают в совершенно новое для них окружение, они сталкиваются с системой идей, никогда не окружавшей их в европейском сознании, — и видоизменяются, реагируя на это новое окружение. Если мы обозначим этот последний слой заимствований как «новая Россия», то прежде всего она создает образ «антиРоссии» — то есть традиции. Это не собственно тот субстрат идей, который встретила «новая Россия », а специально выстроенный образ. Борис Андреевич Успенский (Успенский, 2001) приводит красивый пример: со строительством Петербурга в России было запрещено возводить каменные здания. Новая Россия, олицетворяемая Петербургом, противопоставляется царем-основателем не просто наличной России, но именно образу «деревянной Руси», специально сделанному для наилучшего сопоставления с Петербургом и новой Россией. Обратим внимание, какие символические (семиотические) изменения следуют за модернизацией: в России возникает новый, «западный», каменный город — Петербург; он контрастирует с другими городами и, чтобы подчеркнуть этот контраст, происходит переформулирование того, что уже имеется, и прежняя Россия объявляется деревянной; чтобы объективировать назначенное семиотическое отличие, специальным административным решением запрещается строить каменные здания везде, кроме Петербурга. Можно видеть, как модернизация переформулирует традицию — для наилучшего, наиболее для себя выгодного отличия от нее.
И это лишь одна сторона дела. Новая Россия создает анти-Россию, но и Россия не остается в долгу, создавая образ антиновой России, развратной, суматошной и неуважительной. Существуют новый пласт заимствований и традиция, а также их образы друг друга. Поскольку традиция неоднородна, состоит из различных слоев, то такие взаимодействия возникают меж самыми разными слоями, так что иногда в схватке сходятся не «последний, самоновейший пласт» и «вся традиция», а, скажем, все новации вместе — против чуть не Киевской Руси.
Далее, культура не мозаика, кое-какие сшибки и сопоставления все-таки забываются, сплавляются в единое целое, отчего возникает традиция — разной глубины для разных вопросов, способная реагировать как единое целое, и тогда процесс восприятия нового хоть немного упрощается. И все же в прошедшем на сайте «Дискурс» диалоге можно видеть, как сходятся — и не обязательно в споре разных людей, а иногда и в одном человеке — Московская Русь с Советской страной, Русская земля сражается с имперской Россией, демократическая Россия берет в союзники то «Третий Рим», то «Петербург», а то и вовсе «Господин Великий Новгород» — есть и у нас демократическая традиция, а как же.
Сплав и взаимодействие заимствований приводят к самым разнообразным сочетаниям. Вот пример Б. Успенского: художественная литература в Европе не носит учительного характера, она занимает в культуре иную нишу; русская литература XIX века, несомненно, есть результат серии заимствований от западноевропейских литератур; при этом она носит учительный характер, учит человека выбирать в борьбе Добра и Зла; эта учительность унаследована от древнерусской литературы, которая не была «художественной», но была прежде всего учительной. Любое, сколь угодно точное следование европейским образцам дает не «простое подражание», а по крайней мере собственную «манеру» — потому что оказывается в ином контексте, иной структуре читательских ожиданий. В секуляризирующемся обществе XIX века церковная культура отходит на задний план — и художественная литература, светская «по определению», оказывается в роли «учительницыжизни». И при этом она подражает западноевропейскому реализму, тому самому, что возник как результат поисков сверхэкзотики: читатель, утомленный романтическими пиратами и красочными туземцами южных морей (которыми была пересыщена литература начала-середины XIX века), с удовольствием развлекался, пролистывая картинки жизни французских крестьян (сходные мысли о развитии литературных стилей можно найти у Э. Ауэрбаха, 1976, с. 495-497 и след.). Ясно, что русский реализм, «списанный» с французского, оказывается совершенно иным эстетическим явлением. Это невозможное сочетание «экзотического» стиля — реализма, — заимствованного из Европы, с традиционной ролью литературы в русской жизни есть лишь одна из многих иллюстраций сплетения в культуре традиций и новизны.
Можно обратить внимание и еще на одну сторону дела. Как мы только что говорили, историческое прошлое и настоящее живут одновременно. Если мы уедем из Москвы и поищем, то легко найдем в России места, где еще не наступил 1991 год, где еще живут при социализме. Если поискать, можно найти и такие места, где еще не было 1917 года, где живут, по сути, в царской России. Гораздо реже встречаются, но все еще есть, люди, для которых еще не наступило время Владимира Красно Солнышко, не произошла христианизация Руси. Все они живут в XXI веке.
Одновременны прошлое и настоящее — но так же сосуществуют сбывшееся и несбывшееся. Было бы очень большим упрощением думать, что некий исторический вариант либо осуществился, либо нет. Могли существовать, например, Россия без революции 1917 года, Европа без фашизма, та Европа, что совсем иначе развивалась с первой трети XIX века. И в этой неосуществленной Европе и России жили бы люди, совсем обычные, «средние», не гении и не пророки, которые бы, однако, отличались от людей осуществившейся истории. Того варианта истории, той Европы и той России нет, а вот люди, которые произошли от незавершенных рядов причин и для неосуществленных целей, — такие люди есть и живут среди нас, люди из «альтернативного мира». Происходит это потому, что некоторые ряды причинности не осуществились в качестве общественно-значимого варианта, но все же смогли определить частные судьбы.
Таких людей не так много, все-таки большинство из нас принадлежит своему времени, и все же, все же... Иногда мы встречаемся с людьми, о которых можно не просто спросить себя, как такой человек мог появиться среди нас, но даже попробовать выстроить, реконструировать целый мир, в кото-ром могла бы естественно развиваться такая личность. Биография такого человека подобна карте «таинственного острова», старой карте, где обозначены лишь немногие детали, и все ж пытливый ум может восстановить абрис береговой линии.
Такое сложное взаимодействие новизны и традиции типологически нормально, его можно найти в любой истории. Однако размер имеет значение, и масштабы новизны, поглощаемые российской историей, придают ей новые качества, которых многие иные «истории» не знают.
Это, во-первых, огромная глубина памяти культуры. Владимир Соловьев объяснял, что в России до сих пор жива та языческая «подкладка», на которую при Владимире Красно Солнышко легло христианство. Живая языческая традиция, по исследованиям антропологов, существовала до конца XIX века, сейчас она несколько поблекла и выветрилась, но это — не глубокий архаизм, а вчерашний день нашей культуры. Для XIII века указан славянский обычай топить старуху в водоеме близ села (Большаков, 1997). В XIII веке в Галицкой земле функционировали языческие святилища, совершались массовые человеческие жертвоприношения (Русанова, Тимощук, 1998). То самое язычество жило чуть не до революции. Что говорить о таких недавних событиях, как Орда да Москва, Петербург и Советы? Они живы, еще как — нас переживут.
Во-вторых, эта глубина памяти умеряется беспамятством. Парадокса здесь нет, а есть разные смыслы одного слова. Если смотреть «со стороны», внешне и объективно, то культура наша имеет чрезвычайно глубокую память — потому, что при некоторой образованности и усидчивости в ней можно найти эти глубокие слои. Но сама память культуры выражена не слишком сильно: помнить способны только целостные устойчивые структуры. Только в том, что сопротивляется новизне, выстаивает под ее натиском, способны сохраниться следы последовательных пришествий новизны. Структурная выраженность и оформленность не являются сильными чертами русской культуры. И потому помнится многое, но несвязно и несознано, не столько память, сколько ассоциации, не столько сознание себя в прошлом, сколько действия под влиянием импульсов, корни которых невнятны. Целостность культуры недостаточна, чтобы память стала сознательной.
Поясним это двойственное отношение к глубине памяти примером В.В. Бибихина. Он говорит о глубинном термине философии, греческом нусе (уме).
В самом древнегреческом языке это прошлое слова было забыто, и только наш язык, если можно так сказать, еще помнит, что высокое философское нус восходит к нюху, чутью (Бибихин, 2002, с. 89).
Что, в самом деле русский язык помнит этот корень тверже, чем древнегреческий? С одной стороны, — помнит, но сколькие из носителей русского языка владеют этой памятью? Получается, культура и язык помнят нечто древнее и мудрое, но памятью этой владеют далеко не все, говорящие на этом языке.
Далее, надо сказать, что привыкнуть к новизне невозможно. Если к чему-то новому образуется привычка, значит, эта новизна не радикальна. Но России пришлось сталкиваться с таким количеством радикальных новаций, что не то что привычка, но некое такое приспособление все же возникло. Социальная система принципиально двухуровнева — даже при самом грубом рассмотрении. Есть уровень социальных институтов и реакций социума как целого, а есть уровень личных приспособлений к данной социальной среде. Неустойчивостью отличается прежде всего российская социальная система, вынужденная жить под непрерывным бременем все новых волн модернизации, и островами устойчивости начинают служить более целостные единицы — личные мировоззрения. Можно сказать следующим образом: в более устойчивых и гармонично развивающихся обществах часть новизны можно возложить на социальные механизмы; можно ожидать, что системы законодательная и судебная, властная и финансовая, литература и театр смогут ассимилировать некоторую часть новизны. В России же большая доля такой ассимиляции остается для личного творчества граждан. Отсюда возникает тот удивительный сплав, который именуется то русской общинностью, то русской неспособностью к совместной работе. Разнообразие людей в России оказывается больше, чем в тех, ранее упомянутых и благоразумно не названных «гармоничных странах» (при количестве бытующих у нас мифов — что нам еще один концепт...). Наша общинность оказывается антонимом организованности и эффективности (см. подбор высказываний в разделе «Общинность и коллективизм», гл. 2, ч. 1). Ее цель — не в достижении максимально большого «продукта» в единицу времени, а в выживании там, где организованная, эффективная, сложная и специализированная система разрушится. Умению организовывать совместную работу надо учиться, и нужно некоторое постоянство, некоторое спокойное время, пригодное для такого обучения. Если же времени выучиться нет, поскольку все выученное чуть не сразу оказывается не нужным в изменившемся очередной раз мире, специализированные умения заменяются общественными адаптациями общего значения — умением группы как целого выжить, не приобретая пагубной в изменяющейся среде специализации и организации. Это отсутствие специализации имеет следствием меньшую стандартизованность людей. В совсем недифференцированном обществе у нас не было бы стандартизации и в то же время мы встретили бы однообразие неразвитых личностей. Однако Россия давно уже не является примитивной страной с недифференцированной культурой; напротив, историческая память очень глубока, традиции разнообразны и не нивелированы. Такие нестандартизованные традиции порождают очень разнообразных людей, которые и ассимилируют за счет личных мировоззрений сваливающуюся на общество новизну.
Описанная выше «луковичная» модель (состоящая из лежащих друг на друге пластов новизны) относится и к спору западников и почвенников. При каждом крупном восприятии новизны образуются свои западники и свои почвенники. Для почвенников нового уровня прежние новации являются уже традиционными и они считают прежнее противостояние западников и почвенников несущественным. А доживающие свой век почвенники прежнего поколения считают «молодых» почвенников западниками, поскольку «молодые» приняли некий прошлый набор новаций. Тем самым в одно время слово «западники» означает разное в устах людей, придерживающихся традиционности «разногоуровня».
Наиболее взвешенная и усредненная позиция на современном этапе спора западников и почвенников проговорена многими участниками нашего форума. Она сводится к тому, что спору нет места: русские уже европейцы, Россия есть Европа, спор идет внутри одной культуры, между менее образованными и более образованными людьми. Кто в университете обучался, есть русский европеец, кто невыученным остался — природный русак, а кто сподобился Пажеский корпус завершить — тот Митрич. Эта позиция верна и неверна, как всякое «среднее». Образование у нас, конечно, европейское, науки и искусства европейские, иных нет. Но мы видели, что перенесение «европейской литературы» в контекст иной культуры сразу создает новизну и особенность. И потому «русские европейцы» — несмотря на хулу и хвалу— не могут избавиться от прилагательного, назойливо подчеркивающего их специфичность. И потому рождается концепция «Другой Европы»: есть Европа (настоящая) и есть Азия, а есть мы, нам важно подчеркнуть, что мы в Европе, и мы не можем не видеть, что не в той. Это игра словами: за любыми ярлыками и любыми решениями (не-Запад, Другая Европа, Евразия и т. д.) прорастает все та же старая проблема, решаемая западниками, славянофилами, евразийцами и другоевропцами.
Не раз замечено, что славянофилы не в меньшей степени результат западного влияния, чем западники. Не раз сказано, что западники — люди русской культуры. Славянофил Шишков призывал на словах к традиции, на деле — к новации, ибо «мокроступы» есть для языка новизна никак не меньшая, чем «калоши». Западник Карамзин был одним из тех, кто создал тот «могучий и свободный », который мы сейчас привычно калечим в приступе новых заимствований и распада старой нормы. Констатации вроде «русского европейца» позволяют увидеть в собеседнике друга, но не помогают решить проблему. Почти любому течению в русской культуре могут быть найдены корни на Западе; ни одно не является «только западным», у каждого есть «наша окраска».
Россия — первая незападная страна, осуществившая успешную модернизацию, величайший успех и надежда западников. Россия — страна, где модернизация (едва не) потерпела крах, величайшее предупреждение западничеству. Проблемы соотношения «передовой, глобальной, прогрессивной » культуры и реально существующего человечества — разнообразно-традиционного и новаторски-неглобального — стоят в России крайне остро. Эта проблема менее остра для Европы — там новизна «своя »; она менее остра для «Азии » — здесь имеют более прочные традиции, а европейская культура в Азии смотрится настолько чужой, что спутать ее со своей нет никакой возможности. А русская культура в течение веков старается выработать в себе способность воспринимать «западное влияние», не умирая при этом. Восприятие новизны есть путь к смерти; неприятие новизны — тоже. Поиск «баланса» и моста тоньше волоса меж двумя смертями — это и есть та задача, которую пытаются решить в России. Человечество должно научиться развиваться, и потому «частное решение» этой проблемы дорогого стоит.
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 5429
Другие книги
Редакция рекомендует
- Отмена лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" в декабре 1941 г.
- Россия и Болгария: между "войнами памяти" и поиском совместного прошлого
- Как преподают военную историю за рубежом?
- Рождественские постеры австралийской, британской, германской компартий
- Образ врага в советских исторических фильмах 1930-1940-х годов
- "Убей немца" в советской пропаганде