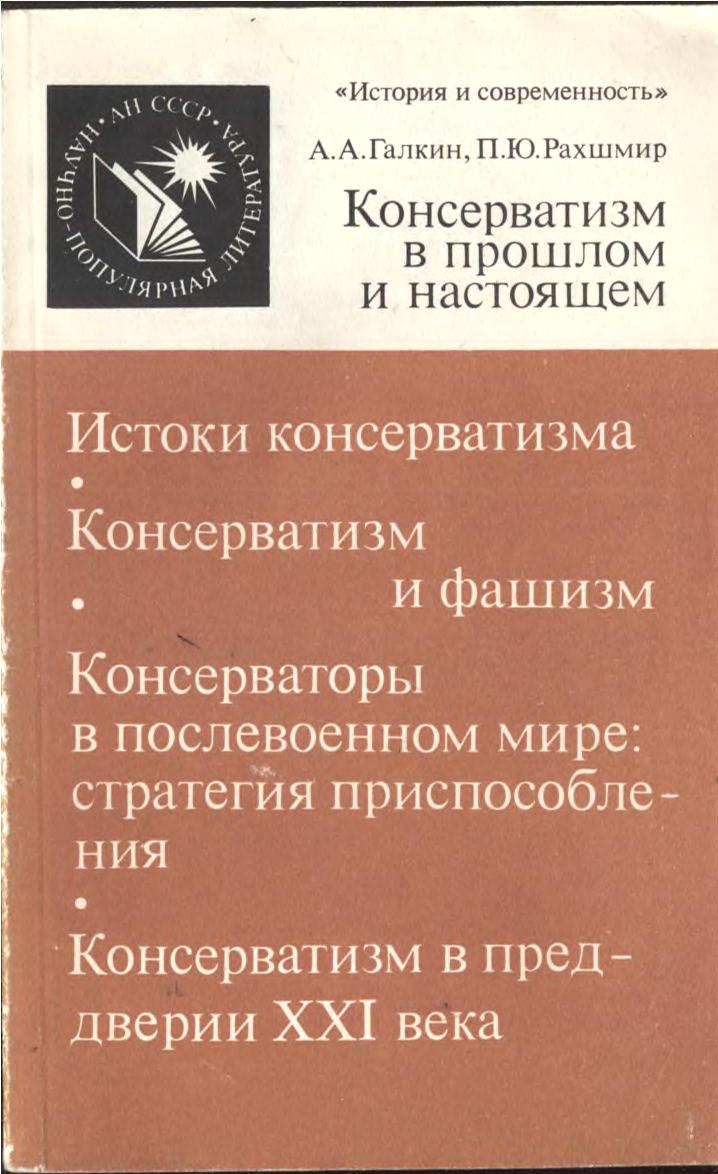Именно такой, более «широкий», подход характерен для общепризнанного тогда теоретика консерватизма Э. Берка (1729—1797). Э. Берк нес службу в качестве секретаря видного вигского политика маркиза Рокингэма, который бывал и премьер-министром Англии. За свои заслуги Берк был удостоен места в парламенте от одного из «гнилых местечек». Его книга «Размышления о Французской революции» считалась чем-то вроде библии консерватизма. Она появилась уже в 1790 г., и менее чем за год вышло 11 ее изданий. К моменту смерти Берка было распродано 30 тыс. экз.11 Интересно, что отпрыск скромного ирландского законника, поставивший свое перо и дар красноречия на службу аристократическо-буржуазной вигской олигархии, оказался проницательнее, чем такие «классики» махрового феодально-аристократического консерватизма, как Ж. де Местр и Л. де Бональд. Своей книгой он опередил их на несколько лет. Это говорит о незаурядном политическом чутье вигского оратора и публициста.
В судьбе Берка отразилось то немаловажное обстоятельство, что в качестве идеологов консерватизма выступали чаще всего не родовитые аристократы, а представители начавшей тогда формироваться буржуазной интеллигенции, выходцы из захудалого дворянства, а иногда и вообще из низов. Аристократическая знать редко выдвигала мыслителей из своей среды. Ведь дворяне, по словам героя Бомарше Фигаро, взяли на себя один-единственный труд — родиться. Зато господствующий класс обладал возможностью привлечь на свою сторону одаренных людей, не располагавших ни состоянием, ни знатной родословной. А тех часто манила перспектива приобщиться к аристократическому блеску и богатству, ощутить свою принадлежность к элите. Давала о себе знать, особенно в Англии, сравнительно далеко продвинувшейся на пути буржуазного развития, и отмеченная основоположниками марксизма тенденция к разделению духовного и материального труда в среде господствующего класса: одна его часть выступает в качестве мыслителей данного класса, «это — его активные, способные к обобщениям идеологи, которые делают главным источником своего пропитания разработку иллюзий этого класса о самом себе»12. Фигура Берка воплотила многие Черты, свойственные этой группе господствующего класса вообще и господствующей в особенности, черты, которые в модифицированном виде можно обнаружить и у современных пророков консерватизма.
Чем же объясняется широкая известность Берка, сохранившаяся, несмотря на спады и подъемы, на протяжении почти двух столетий? Было бы неверно, как это делают некоторые современные буржуазные ученые, изображать его глубоким теоретиком, находить у него элементы социологических и политологических концепций. Сам Берк с отвращением относился к абстрактным теоретическим схемам. Суждения его были обычно обусловлены конкретными ситуациями; и заботила его скорее эстетическая, чем философская, сторона дела. Логику он часто приносил в жертву риторическим эффектам. Отсюда — масса противоречий и неувязок, что трудно отрицать даже его поклонникам. Но именно благодаря этому высказывания Берка могут быть использованы весьма широко, в разных контекстах. Это позволяет в каждую новую эпоху отыскивать в его наследии аргументы в пользу обновленных версий консерватизма.
Вряд ли найдется сейчас «идейно подкованный» консерватор, который бы не ссылался на Берка. Более того, к нему апеллируют и либералы, преимущественно правого толка. Это объясняется тем, что в наследии британского вига причудливо сплетаются феодально-аристократические и буржуазные черты, отражая специфику общественного развития Англии конца XVII столетия, особенно ее правящих кругов, альянс землевладельческой знати и крупной буржуазии, воплощенный в вигской олигархии. Берк — человек, несомненно, одаренный — был вынесен социально-экономическим развитием своей страны вперед по сравнению с континентальными собратьями, большинство которых занимало однозначную позицию защиты феодально-аристократических интересов.
В идейно-политической эволюции Берка проявилась закономерность, типичная для многих консервативных теоретиков и политиков. Он постоянно сдвигался вправо, пытаясь при этом сохранить часть прежнего идеологического багажа. Отсюда характерная для него двойственность, отражавшая несостыкованность феодально-аристократических и буржуазных компонентов его системы взглядов.
Эта двойственность Берка наглядно проявляется в его понимании «естественной аристократии». В нее он включал не только дворян, но и богатых коммерсантов, образованных людей, законников, ученых, артистов. Самой роковой ошибкой французского дворянства, в конечном счете приведшей к революции, Берк считал то обстоятельство, что выходцы из буржуазии, достигшие по своему богатству уровня аристократов или превзошедшие их, не получили здесь того общественного положения и достоинства, каких богатство по соображениям разума и политики заслуживает в любой стране, правда... отнюдь не равного с дворянством13.
Феодально-аристократические и буржуазные компоненты во взглядах Берка связаны воедино узлом традиционализма. Именно традиционализм — ключевой элемент воззрений Берка, предопределивший его роль и место в становлении и развитии теории и практики консерватизма. Преклонение перед святостью традиции пронизывает представления Берка о человеке и обществе. В прямой конфронтации с Просвещением Берк противопоставляет традицию разуму, ставит ее над ним. Соблюдать традиции — значит действовать в соответствии с естественным ходом вещей, т. е. с природой, с вековой мудростью, аккумулированной в традиции. Отсюда политика, по Берку, не столько результат глубокого размышления, сколько «счастливый эффект следования природе, которая является мудростью без рефлексии и стоит выше рефлексии»14.
Воплощением традиции является английская конституция — драгоценное наследие предков. В ходе естественного развития конституции сложилась целая система взаимоуравновешивающих друг друга элементов, которая обеспечивает равновесие и стабильность. Очень важно, чтобы в дальнейшем это равновесие не нарушалось. Тот, кто заинтересован в сохранении спокойствия и порядка, должен, подобно садовнику, время от времени бережно удалять с вечнозеленого дерева конституции старые, засохшие побеги, пестовать новые. Так, медленная, постепенная эволюция сочетается с принципом сохранения.
Традиционализм лежит в основе беркианского подхода к изменению, обновлению и реформе. Буржуазная сторона его собственной натуры побуждает вигского публициста и политика принять неизбежность перемен и реформ, тем более что сам «естественный ход вещей» сопряжен с изменениями. Но понимание этих изменений у Берка чисто традиционалистское. Более всего он озабочен тем, чтобы при реформах не были нарушены «естественные» традиционные устои. «Мой ведущий принцип в реформации государства, — подчеркивал Берк в письме, адресованном члену Французской национальной ассамблеи, — использовать имеющиеся материалы... Ваши же архитекторы строят без фундамента»15. «Честный реформатор», утверждал Берк, «не может рассматривать свою страну как всего лишь чистый лист, на котором он может писать все, что ему заблагорассудится». «Моему стандарту государственного деятеля», продолжал свою мысль Берк, должны быть свойственны «предрасположенность к сохранению и способность к улучшению, взятые вместе»16. Будучи сам парламентарием от одного из «гнилых местечек», Берк возражал против парламентской реформы, предполагавшей, в частности, их ликвидацию. По мнению Берка, реформа таила в себе опасность, т. к. умеренные реформаторы могли не удержать в узде своих более решительных сторонников.
Особым признанием Берка пользовались реформы, нацеленные на восстановление традиционных прав и принципов. Идеальным образцом такой реформы он считал «славную революцию 1688 г. »; в ней он видел антипод ненавистной ему Французской революции. Вигская революция 1688 г. была вполне оправдана в его глазах, поскольку она «была совершена для того, чтобы сохранить наши древние, неоспоримые законы и свободы, а также конституцию, которая является нашей единственной гарантией закона и свободы». Вообще «все изменения были сделаны на основе принципа уважения к старине»17. По мнению Берка, все права должны быть наследственными, всякая перемена должна опираться на предание и авторитет. «Где же тут место для обновления»?— не без оснований ставил вопрос известный российский либеральный правовед Б. Н. Чичерин18.
Другим приемлемым для Берка типом консервативной реформы наряду с «восстановлением традиции» были превентивные реформы, предназначение которых — упредить революцию. Такого рода «ранние», своевременные реформы — «это дружеское соглашение, когда у власти еще друг; запоздалые же реформы — это уже соглашение на условиях, навязанных победившим врагом»19. Берк разграничивает изменение и реформу: если первое меняет сущность объектов, то вторая их сущности не затрагивает, являясь «вынужденным средством», которое, к великому сожалению, приходится применять.
В конце XVIII —начале XIX в. резонанс вызывала главным образом консервативная сторона теории Берка, ее антиреволюционный пафос. Английский король Георг III, политику которого не раз критиковал вигский парламентарий, после публикации «Размышлений о революции во Франции» сказал: «Вы принесли пользу всем нам. Нет человека, который называл бы себя джентльменом и не считал бы себя обязанным Вам за то, как Вы поддержали дело джентльменов»20. «Вы, месье, — писал Берку находившийся в эмиграции будущий французский король Людовик XVIII (тогда граф Прованский), — обрели право на признание и восхищение не только моих соотечественников, но и всех суверенов, всех благомыслящих людей во всех странах и на все века»21.
Под влиянием книги Берка обратился к консерватизму будущий соратник Меттерниха, один из ведущих архитекторов реакционного Священного союза Ф. Генц. «Блестящим Берком» восхищался Ж. де Местр, занимающий одно из первых мест в пантеоне консерватизма22. Для Берка находит теплые и возвышенные слова сухой и педантичный догматик консерватизма Л. де Бональд: «Берк — это красноречивый и чувствительный защитник истинных принципов монархической конституции. Я отважусь полагать, что некоторые из моих мыслей о великих предметах звучат в унисон с его глубокими размышлениями... Никогда консервативные принципы обществ не подвергались такой атаке, и никогда их не защищала с такой гениальностью, убежденностью и смелостью»23.
Правда, восхищение де Местра и де Бональда Берком не равнозначно особой близости между ними. Как заметил один французский автор, «Берк задохнулся бы при режиме и Бональда, и графа де Местра»24. И действительно, Берк считал само собой разумеющимися те, в сущности, буржуазные права и свободы, которые утвердились в Англии; для континентальных консерваторов они были тогда просто немыслимы. Английского вига и французских феодальных реакционеров сблизила прежде всего борьба против Французской революции. Так уже у самых истоков консерватизма проявляется тенденция к консолидации в ответ на революционную угрозу, причем чаще всего на основе сдвига в сторону более реакционного полюса.
Имена Ж. де Местра (1753—1821) и Л. де Бональда (1754—1840) всегда фигурируют рядом, в одной связке, и для этого есть серьезные основания. «Вы всегда писали о том, что я думал, я всегда писал о том, о чем думали Вы», — говорится в одном из писем де Местра де Бональд25. Тот же де Местр писал своему единомышленнику в 1818 г.: «Возможно, природа решила позабавиться, натянув в таком совершенном созвучии две струны: Ваш дух и мой! (Столь полный унисон — уникальный феномен»)26. Даже их первые значительные произведения появились синхронно — в 1796 г., когда Великая французская революция прошла через все основные фазы своего развития.
Интересно, что оба они первоначально восприняли революцию спокойно, даже не без некоторой доли сочувствия. Будучи далекими от Версаля, аскетичными по характеру, оба с осуждением взирали на развращенные нравы придворного мира. Они не принадлежали к родовой аристократии. Де Местр не был даже французом. Он происходил из савойского «дворянства мантии»; его отец был возведен во дворянство сардинским королем за заслуги в деле кодификации законов королевства. Л. де Бональд был выходцем из провинциальной дворянской семьи в Лангедоке, поставлявшей французским королям чиновников. Революция застала его мэром небольшого городка. Ее противником де Бональд стал позже, чем Берк, только в 1791 г., когда был принят закон о переводе духовного сословия в обычное гражданское состояние. Де Местр изменил свою благожелательную к революции позицию на враждебную несколько раньше: после провозглашения Декларации прав человека и гражданина. Затем антирсволюциопные и антидемократические взгляды двух диоскуров консерватизма были подогреты конфискацией их владений.
Несмотря на существенное, а порой даже детальное сходство их воззрений, у каждого из них было свое лицо, свой метод, свой стиль. Оба, особенно де Местр, получили превосходное образование, обладали незаурядными познаниями в разных областях. По своим человеческим качествам они стояли выше большинства тех аристократов, чьи интересы они так ревностно отстаивали. Их взгляды предстают как крайнее проявление мракобесия и фанатизма не в силу каких-то личных патологических свойств, а в силу логики их ультраконсервативной позиции.
Несмотря на крайнюю реакционность, оба они понимали, что просто перевести стрелку часов вспять, к 1788 г., как предлагал неаполитанский король, дело совершенно немыслимое. Кроме того, старый порядок не был в глазах де Местра и де Бональда идеалом. Революцию савойский граф считал заслуженной карой морально разложившейся аристократии. Возврат к дореволюционному состоянию, следовательно, не гарантировал от новой революции. Путь к спасению и де Местр, и де Бональд усматривали в усилении роли религии, причем не только в духовной, но и светской сфере. По сути дела, речь шла о теократии, т. е. передаче духовенству власти в общественной жизни.
Наиболее последовательным теократом был де Местр, выдвинувший идею создания универсальной общеевропейской монархии во главе с римским папой. Трактат де Местра «О папе» был плодом многолетних раздумий и вышел в свет за два года до его смерти, в 1819 г. Теперь, когда эра страстей позади, следует трезво и спокойно признать, писал де Местр, что «европейская монархия не может быть утверждена иначе как посредством религии», а «универсальным монархом может быть только папа»27. «Приоритет суверена-понтифика (т. е. папы. — Авт.), на взгляд де Местра, то же самое, что система Коперника для астрономов». Обвинения по адресу пап в том, что они залили Европу кровью, наполнили ее фанатизмом, де Местр отвергает, как несущественные; это было в далеком прошлом и не имеет значения для настоящего и особенно будущего. Самое главное заключается в том, что папская власть — «всегда власть консервативная»28.
Папы — хранители европейской сущности, европейских институтов. В Европе было якобы слишком много свободы и мало религии, поэтому и произошли ужасные социальные потрясения. Только теократия может предотвратить их в будущем.
Ядром консервативных построений де Местра является идея эквилибра, т. е. создания статичного равновесия в политической и духовной жизни, такого равновесия, которое обеспечило бы долговременное сохранение консервативного порядка вещей, приостановило бы прогрессивное развитие человечества. Папской власти как раз и предназначалась роль главной силы этого эквилибра. В самой идее де Местра с наибольшей рельефностью проявилось ультраконсервативное видение мира. Чудесный эквилибр во главе с папой должен внести порядок в отношения между европейскими светскими государями, должен обеспечить им власть над подданными и в то же время убедить последних, что подчинение не исключает свободы и даже предполагает ее. Кроме того, теократия, как считал де Местр, сможет включить в эквилибр и политику, и науку29. Из всего этого вырисовывались контуры грандиозного консервативного замысла: с помощью такого рычага, как религия, надолго, если не навсегда, затормозить развитие человеческого общества.
Логика теократического подхода привела де Местра к апологетике средневековой троицы: папа — король — палач. Настоящий гимн палачу звучит в его «Санкт-Петербургских вечерах»: «Все величие, все могущество, все подчинение возложены на него: в нем воплощены ужас и нить связи между людьми. Лишите мир этой непостижимой силы — в одно мгновение порядок обратится в хаос, троны рухнут и общество исчезнет»30. Не менее горячо восславил де Местр испанскую инквизицию, видя в ней единственное средство борьбы с инакомыслящими еретиками. Если трибуналы инквизиции и подвергли массу людей мучениям, то делали это на законном основании, поэтому обвинения по их адресу бессмысленны. Что же касается жертв инквизиции, то «упорствующий еретик и пропагандист ереси неоспоримо должны считаться самыми великими преступниками»31. Если преступление столь значительно, то должна пролиться кровь, а священник понадобится для того, чтобы утешить жертву на эшафоте.
На теократической позиции твердо стоял и де Бональд. Декларацию прав человека и гражданина он предлагал заменить Декларацией прав бога. По мнению де Бональда, «бог — автор всех совершенных законов или необходимых отношений, имеющихся среди социальных существ»32. Однако его теократизм не доходит до идеи универсальной монархии во главе с папой; он придерживается более сбалансированного представления о соотношении между религиозной и светской властями, не отдавая явного приоритета какой-то одной из них. Де Бональд выдвигает идею «конституированного» упорядоченного общества, представляющего собой «союз религиозного и политического обществ, следовательно, двух консервативных властен, бога и монарха; двух консервативных сил, клира и дворянства». Правительство и религия, с откровенной убежденностью пишет де Бональд, это «две узды, необходимые для сдерживания страстей человеческих»33.
Консервативному, статичному образу мышления де Бональда также близка идея эквилибра, правда, трактует он его гораздо уже, чем де Местр, подразумевая под ним присущее «конституированному обществу» равновесие между составляющими его религиозными й политическими компонентами34.
В противовес теории просветителей об общественном договоре де Бональд выдвигает положение о том, что общество не могло существовать до монархии, поскольку оно не может возникнуть прежде, чем возникнет власть. Это совершенно бездоказательное положение подается как аксиома. Отсюда следует вывод: «Было бы абсурдно полагать, что общество вправе предписывать какие-то условия монарху»35. Только традиционная, наследственная монархическая власть выглядит в его глазах легитимной, т. е. законной.
Принцип легитимности предстает у де Бональда в самой крайней форме, что обеспечило ему признание монархической реакции всей Европы. В писаниях де Местра этот принцип тоже занимал видное место, но все же порой оказывался в тени ультрамонтанства, идеи неограниченной папской власти.
Как и де Местр, де Бональд начисто отвергает республику. Их аргументация великолепно отражает специфику консервативного образа мышления. Де Местр рассуждает так: больших республик, подобных Франции, не существовало, а раз нет прецедента, нет и реальных шансов для сколько-нибудь длительного существования Французской республики.
Образцом «конституированного общества» де Бональд считал общество феодальное; оно лучше всего соответствует фундаментальным социальным законам. Причем идеалу де Бональда больше всего соответствовала французская феодальная монархия до абсолютизма Людовика XIV.
Восхваление феодализма сочетается у французского легитимиста с критикой капиталистических отношений; особенно негативно относился он к торговле, «ибо коммерция рассматривается как единственная религия обществ, после того как деньги становятся единственным божеством». Коммерция, пусть даже самая честная, ставит людей в непрерывное состояние войны друг с другом, разъединяет их страхом конкуренции, жаждой успеха, подрывает сельское хозяйство — эту основу общественного процветания. Хотя законом во Франции дворянству не возбраняется заниматься коммерцией, но «нравы, так сказать, природа, которые гораздо мудрее человека, не позволяют им делать это»36. Сам де Бональд весьма категоричен: дворянство просто не должно позорить себя коммерцией. Такое яростное отрицание капиталистических норм находится в явном противоречии с буржуазными элементами воззрений Берка, которым так восхищался де Бональд.
Существенно отличаются де Местр и де Бональд от Берка и своим отношением к реформам. Если английский консерватор пытается связать реформы с традицией, то французские реакционеры противопоставляют традицию и авторитет реформе. Сама по себе концепция реформы, на взгляд де Местра, несостоятельна. Любой политической конституции присущи врожденные дефекты в силу несовершенства природы человека, а так как природу человека нельзя изменить, то нет смысла пытаться изменить конституции. Вообще акт творения — не дело человека, и, следовательно, реформа тоже не в его власти. В припадке безумия человек может лишь разрушить дело рук божьих; одна только религиозная традиция сочетает в себе созидательную и консервативную сущность37. Самым великим бедствием называет де Местр дух обновления38. Де Бональд готов допустить только изменения в законах религиозного общества, т. е. исходящих от церкви. Новации же в общественной жизни всегда, по его мнению, вносят большую смуту в гражданское общество. В лоне реформы, предостерегает де Бональд, рождается республика, а в лоне республики — реформа39. Наконец, самый «убийственный» аргумент де Бональда: авторитет не может быть реформирован, поскольку он непогрешим, иным же он и не может быть, потому что тогда он не был бы авторитетом. Далее круг замыкается: если обществу присущ авторитет, то ему тоже свойственна непогрешимость, и оно не должно быть реформировано40.
В целом вопреки постоянно декларируемому стремлению к конкретности, учету реального опыта как де Местр, так и де Бональд крайне метафизичны. Свои положения они склонны считать верными на все времена и для всех народов. Недаром де Местру так нравилось введенное в обиход германскими философами понятие «метаполитика», предполагающее наличие в политике абсолютных законов. В этом отношении их образ мышления существенно отличается от живой, гибкой, хотя и непоследовательной, мысли Берка, чуждой абстракции и догматизму.
Важно отметить, что в отличие от Берка, чья книга сразу же стала, пользуясь современным выражением, бестселлером, труды де Местра и де Бональда имели первоначально незначительный резонанс. Их активная циркуляция началась после 1815 г., когда наступила эпоха Реставрации, восстановления сметенных революцией и наполеоновскими войнами порядков и династий, масштабная попытка не только затормозить, но и повернуть вспять ход истории. Идейной платформой Реставрации как раз и явился принцип легитимизации: легитимным, или законным, реакционеры считали «старый порядок», существовавший до 1789 г.
Для осуществления на практике этого принципа вскоре после Венского конгресса, 26 сентября 1815 г., в Париже монархами Австрии, России и Пруссии был основан Священный союз, к которому затем присоединились другие монархии Европы. Главная задача союза заключалась в подавлении революционных и национально-освободительных движений. Естественно, что прикрытием реакционного союза служили высокопарные фразы о необходимости даровать континенту прочный и длительный мир. Не изживший еще до конца туманных либеральных веяний молодости российский император Александр I пытался было включить в акт о создании союза кое-какие положения, способные посеять иллюзии у тех, кто не принимал крайности легитимизма, но австрийскому канцлеру К. Меттерниху удалось отговорить царя от этой «либеральной» затеи. И хотя инициатором создания союза был российский император, его подлинной душой, живым воплощением стал именно Меттерних (1773— 1859). Интересно отметить, что поначалу он не сумел оценить те возможности, которые таились в этом альянсе для международной, и особенно австрийской, реакции, назвав акт о создании Священного союза «пустым и трескучим» документом. Но очень скоро австрийский канцлер круто изменил свое отношение к Священному союзу и взял на себя роль его дирижера и играл эту роль вплоть до революции 1848 г.
В историю Европы австрийский канцлер вошел как автор пресловутой «меттерниховской» системы, принципы которой до сих пор находят отклик среди консервативных политиков и идеологов. Тот факт, что эта система развалилась под натиском революционного процесса, не мешает кое-кому из современных консерваторов считать Меттерниха великим политическим деятелем, поскольку в течение трех десятилетий ему в той или иной мере удавалось поддерживать реакционный порядок. Сам Меттерних без излишней скромности говорил о себе так: «В течение тридцати лет я играл роль скалы, о которую разбивались ужасные волны»41.Благодаря незаурядному дипломатическому искусству, умению сыграть на страхе монархов перед революцией Меттерних сумел добиться такой позиции в европейской политике, которая явно превосходила удельный вес представляемой им Габсбургской империи.
По психологии, по складу ума Меттерних был аристократом XVIII в., циничным сибаритом с повадками грансеньора, хотя титулы и огромное богатство достались ему отнюдь не по наследству. В высшее общество Вены беглец из оккупированной французами Рейнской области проник благодаря женитьбе (в 1795 г.) на внучке канцлера Кауница. С его стороны это был брак явно по расчету, впрочем, не помешавший ему вести жизнь в весьма фривольном стиле вельмож XVIII в. Новый, XIX век был ему чужд во многих отношениях. Меттерних не раз сожалел о том, что родился слишком поздно или слишком рано (поскольку он считал, что история движется по кругу).
Благодаря, в частности, его усилиям, европейская дипломатия сохранила в те годы не только кабинетный, но и куртуазный характер. Еще Венский конгресс называли танцующим конгрессом. В таком же духе проходили и конгрессы Священного союза, собиравшие весь цвет европейской аристократии, признанных светских львов и львиц. Решения, в результате которых лилась кровь тысяч борцов за национальное освобождение, противников феодально-абсолютистских порядков, принимались в краткие промежутки между балами и иными увеселениями. Известный французский дипломат М. Палеолог с едкой иронией писал о Меттернихе, провозглашавшем на конгрессах «вечные законы морального порядка», а по вечерам спешившем в салон своей любовницы, в данном случае графини Ливен42. Когда склонный к аскетизму де Бональд на Веронском конгрессе (1822) увидел «поборников легитимизма», он с возмущением писал одному из друзей: «Этот конгресс с его празднествами и гала-представлениями заставил меня подумать о Вавилоне»43. Все это в его глазах выглядело отвратительно и позорно. Но именно в такой обстановке Меттерних чувствовал себя как рыба в воде. Пожалуй, лучше всех знавший Меттерниха Ф. Генц следующим образом характеризовал своего патрона: «Не человек сильных страстей и быстрых действий; не гений, не большой талант; холодный, спокойный, невозмутимый и расчетливый»44. Анализируя политические взгляды и деятельность Меттерниха, Генри Киссинджер в своей книге «Восстановленный мир» (о ней речь еще будет идти) оценивал австрийского канцлера как «посредственного стратега, но великого тактика»45.
В связи с этой оценкой возникает важный вопрос о специфике консервативной политики вообще. Можно ли придерживаться долгосрочной стратегии, не видя длительной исторической перспективы? Правы ли те исследователи, которые пишут, что Меттерних, будучи по духу человеком прошлого века, не понимал век текущий? Ведь он обладал большим политическим опытом, острым социальным инстинктом, чтобы почувствовать приближение новой грандиозной революционной угрозы. Его чувствительность обострялась еще и тем обстоятельством, что он был канцлером раздираемой массой противоречий лоскутной, многонациональной империи. Правда, большинство ссылок на непреодолимый дух времени было сделано им задним числом, после 1848 г., видимо, для того, чтоб как-то оправдать свое поражение. Но и от более ранних времен оставались свидетельства его исторического пессимизма. В письме Меттерниха российскому министру иностранных дел Нессельроде (1830) можно найти такую фразу: «В глубине души я сознаю, что старая Европа обречена»46 Свою задачу он видит в том, чтобы отсрочить неизбежное.
На это и была нацелена «система Меттерниха». Правда, самому австрийскому канцлеру этот термин не нравился, он считал его изобретением досужих умов, предпочитал говорить о «принципах». Тем не менее автор наиболее солидной биографии Меттерниха Г. Р. фон Србик полагал, что, несмотря на декларируемое канцлером отвращение к абстракциям, можно говорить о «меттерниховской системе», что в ней содержится «метаполитический» момент, сближающий ее в этом смысле с построениями Ж. де Местра47. Конечно, Меттерних и не помышлял об универсальной теократической монархии. Он стоял на конкретной почве международных отношений своего времени, но охранительное, консервативное миропонимание привело его к идее эквилибриума в виде сбалансированной системы европейских государств, основанной на соблюдении баланса между наиболее могущественными державами, солистами европейского концерта. Внешнеполитический эквилибриум теснейшим образом связан с внутриполитическим господством консервативных сил. По Меттерниху, «покой являлся первейшей потребностью для жизни и процветания государства». При таком «покое» нет места свободе, парламентаризму. «Слово „свобода“, — говорил Меттерних, — является для меня не исходным, а конечным пунктом. Исходный пункт — это слово „порядок". Свобода может покоиться только на понятии „порядок“»48. Понятие «парламентаризм» для Меттерниха было созвучно понятию «революция».
Несмотря на сугубо практический и светский характер меттерниховского принципа эквилибриума, он типологически родственен подходу де Местра. Это обстоятельство уловил М. Палеолог в своей характеристике «системы Меттерниха». Все сводится, писал он, к простой формуле: «способствовать внешнему миру между нациями путем равновесия сил и союза коронованных властителей — внутреннему миру в государстве путем объединения консервативных властей и совместных действий легитимных правительств. Это не что иное, как органическое и трансцендентное понимание человеческого общества, „мировоззрение", подобное христианской теократии средневековья, религиозное попечительство над народами в католическом феодальном государстве»49.
Подобная система равновесия с железной необходимостью предполагала интервенцию против социальных и социально-освободительных движений, нарушавших эквилибриум. Она должна была сковать движение исторического процесса, заставить время остановиться, и это обрекало ее на конечный провал. Однако историческая обреченность такого рода политики не означает, что она, пусть на ограниченное время, не способна оказать серьезного сопротивления социальному прогрессу.
Система Меттерниха, как и вся его политическая деятельность в качестве дирижера европейского концерта держав, неотделима от более скромной фигуры его ближайшего советника и соратника Ф. Гонца (1764—1832). Истоки идей меттерниховской системы можно обнаружить в опубликованной еще в 1801 г. книге Генца «О политическом положении Европы до и после Французской революции». В ней проводилась мысль о том, что все беды Европы происходят от небывалого преобладания одной из европейских держав — Франции. Это нарушило «равновесие», «истинную федеративную систему»; пока это равновесие сохранялось, народы континента пользовались благами мира. В описании Генца двадцать лет, предшествовавших революции, выглядят периодом мира и процветания, временем, когда «просвещенный, милосердный и мирный образ мыслей завладел в большинстве европейских стран массой народа»50. Мудрые государственные деятели видели недостатки тогдашней федеративной системы и разумно, не торопясь работали над улучшением «общественной конституции Европы». Но Французская революция и развязанные ею войны разрушили благотворную систему. Единственный путь к спасению Европы — восстановить ее. Этой задаче Генц посвятил свои силы.
Если Меттерних удостоился титулов «первого европейца», «первого министра Европы», то Генца именовали «секретарем Европы», даже «крестным отцом Священного союза». «Я был доверенным министра, которого люто ненавидели либералы во всех странах... Мне выпала редкостная участь вести протоколы шести конгрессов суверенов и двух министерских конгрессов в Вене, Париже, Аахене, Карлсбаде, Троппау, Лайбахе и Вероне... Я всегда сознавал, что дух времени в конце концов окажется сильнее нас... Но, несмотря на это, с верностью и упорством я осуществлял выпавшую на нашу долю задачу»51 — так подводил Генц итоги своей жизни и деятельности.
Лично Генц не отличался высокой моралью. Этот выходец из добропорядочной прусской буржуазной семьи привык вести вполне аристократический образ жизни. Современникам он запомнился не столько своими делами в качестве «серого преосвященства» при Меттернихе, сколько связью со знаменитой балериной Фанни Эйслер. Генц не гнушался брать деньги и «подарки» от официальных представителей всех европейских дворов, от частных лиц, надеявшихся в своих интересах использовать его влияние. Обладая изысканным эстетическим вкусом, Генц мог испытывать наслаждение от произведений писателей и поэтов, которых он считал своими политическими врагами, например Гейне и Байрона.
Патрон Генца Меттерних вошел в историю как искусный мастер политического лавирования и манипулирования. Но это не должно затемнять того факта, что он не колеблясь готов был применить самые крайние репрессивные меры, когда считал их более целесообразными. Поддерживать эквилибриум нелегко, так как враждебные силы — их Меттерних именовал «социалистами» или «анархистами» — постоянно пытаются его разрушить. Поэтому против них пригодно любое оружие, любые методы, включая интервенцию. Генц полностью разделял эту жесткую позицию и, как обычно, разработал соответствующее обоснование.
Так, в марте 1831 г. появились его «Замечания о праве на интервенцию», где, обобщая богатую практику Священного союза, задним числом он трактует это право фактически как неограниченное.
На словах Меттерних не отвергал умеренные реформы сверху, говорил о том, что стабильность не следует отождествлять с застоем и неподвижностью. Однако реформистская практика была ему абсолютно чужда. Реформа для него тождественна уступке, а уступки расшатывают «систему». На его взгляд, законодательные и административные правила не рассчитаны на уступки, они и сами по себе постоянно улучшают положение дел, а уступки означают принесение в жертву суверенитета монарха. В нормальные времена реформы не нужны, потому что и без них все идет хорошо, а во времена потрясений они еще больше усугубляют беспорядок. Один из основных принципов Меттерниха заключается в следующем: «Когда страсти накалены, нельзя и помышлять о реформах; мудрость рекомендует в таких ситуациях ограничиться сохранением»52. Уже на исходе лет, пребывая в Англии, Меттерних живо отреагировал на речь одного умеренного английского консерватора, который усматривал мудрость государственного деятеля в том, чтобы определить подходящий момент, когда можно пойти на уступки: «Моя концепция государственного деятеля совершенно иная. Истинная заслуга государственного деятеля... состоит в том, чтобы избегать ситуации, в которой уступки могут стать необходимыми»53.
Ностальгия по славным временам до 1789 г. мешала Меттерннху разглядеть и верно оценить новые социальные силы в обществе XVIII в. «Рабочего вопроса» для него практически не существовало, к буржуазии он испытывал глубокое презрение. В ее либеральных устремлениях он видел смертельную угрозу своей системе, проявление невежественной «самонадеянности», чреватой «моральной гангреной» для общественного организма. Меттерних избегал контактов с богатой и образованной венской буржуазией, не понимал внутреннего мира и реальных интересов класса, теснившего феодальную знать.
Его клеврет Генц хотя и был старше, но лучше улавливал происходившие социальные сдвиги. Во время встречи с английским социалистом-утопистом Р. Оуэном в 1818 г. Генц начисто отмел аргументы собеседника насчет необходимости улучшить положение рабочих: «Нам не нужна зажиточная и независимая масса. Как мы сможем тогда ею править!»54. Однако осенью 1830 г. его более всего страшит угроза того, что «беспросветная нужда и отчаяние низших классов сделают их послушным орудием в руках безбожных демагогов»55.
Если Меттерних не мог примириться с буржуазной Июльской монархией, пришедшей во Франции на смену Бурбонам после революции 1830 г., то Генц смотрел на это дело гораздо шире. «В добрый час, — приветствовал он правительство Июльской монархии, — если Дюпон, или Лаффит, или кто-нибудь еще сохранят порядок и смогут дать хлеб умирающим от голода рабочим, я завтра же отдам свой голос в их пользу»56. У соратника Меттерниха были обширные и, конечно, не бескорыстные связи с миром коммерции; личная дружба связывала его с венским Ротшильдом. Генц даже отплатил другу за щедрые субсидии своим пером, написав весьма благожелательную книгу о доме Ротшильдов. В отличие от упорствующего канцлера его советник ясно видел, что нельзя бесконечно отказывать поднимающейся буржуазии в какой-то доле власти. Вообще после 1830 г. Генц был убежден, что «революции больше не сдержать и потому было бы целесообразнее пойти на некоторые уступки, сохраняя при этом монархический принцип»57. Все это вызывало размолвки между старыми противниками революции. Дело дошло до того, что возмущенный Меттерних, правда в весьма узком кругу, назвал Генца «революционером»58.
Вряд ли стоит преувеличивать степень остроты противоречий между Меттернихом и его верным слугой, однако нельзя не учитывать того обстоятельства, что в них отразилось наличие двух тенденций внутри консерватизма: ультраконсервативной, традиционалистской, и умеренной, либерально-консервативной.
Безусловно, главная линия противоборства проходила тогда между нисходящей аристократией и восходящей буржуазией. Однако уже в те времена наметилась взаимная циркуляция между противоборствующими силами. Их подталкивал навстречу друг другу страх перед выступлениями низов, перед растущим пролетариатом. Более дальновидные и реально мыслившие представители аристократии не могли не считаться с ростом могущества буржуазии, усилением ее социального влияния.
Либерально-консервативные тенденции раньше всего сказались в Англии и нашли реальное воплощение в политике лидера консервативной партии 30—40-х годов XIX в. Р. Пиля. В процессе борьбы против парламентской реформы, которая была проведена в 1832 г., консервативные силы, именовавшие себя по традиции «тори», предпочли для своей партии название «консервативная», поскольку оно точнее отражало их позицию в новых условиях. До сих пор понятия «консерватор» и «тори» используют как синонимы; между тем в генезисе консервативной партии вигскому элементу принадлежит существенная роль. Значительная часть вигской олигархии в конечном счете перешла на консервативные позиции, а ее идеолог Э. Берк, о котором шла речь выше, считается «отцом консерватизма». Мир Берка и Питта, т. е. вигов, которым столь многим обязаны консерваторы, по словам современного английского историка Гэша, «остается великой вершиной, с которой поток консерватизма стекал в равнины партийной политики викторианского времени»59. Впрочем, между тори и вигами, а затем — между консерваторами и либералами происходил постоянный взаимообмен. Близкий сотрудник Пиля Гладстон станет воплощением британского либерализма, а самый известный консервативный политический деятель У. Черчилль после дебюта в консервативной партии, пользуясь шахматной терминологией, миттельшпиль провел в рядах либералов, а затяжной эндшпиль — опять- таки в качестве консерватора.
Р. Пиль, возглавлявший консервативный кабинет с 1841 по 1846 г., по словам симпатизирующих ему современных английских историков Ф. Нортона и А. Охи, хорошо понимал, что «дух века» «работал» в пользу экономической либерализации, неудержимого роста индустрии. Да и сам Пиль был сыном крупного промышленника, удостоенного титула баронета. Заслугу Пиля те же английские авторы усматривают в том, что он «перевел реформистскую традицию из сферы совести и сознания в практическую политику индустриализирующейся Британии... заложил основы успешной консервативной политики на весь оставшийся XIX век»60.
Действительно, Пиль взял курс на приспособление консерватизма к новым условиям политической борьбы после реформы 1832 г., по которой было ликвидировано несколько десятков «гнилых местечек», пересмотрено представительство от избирательных округов с учетом роли новых промышленных центров, расширен электорат (примерно до полумиллиона избирателей). Лидер консерваторов хорошо понимал, что буржуазия после реформы больше заинтересована в том, чтобы закрепить достигнутые успехи, чем расширять избирательный корпус. Склонный к компромиссам Пиль, находясь в оппозиции, лишь три раза голосовал против вигских кабинетов61. Целью Пиля было создание «союза собственности и порядка, делающего умеренные уступки силам перемен»62. В качестве консервативного премьер-министра он решился на отмену выгодных землевладельцам хлебных законов, в соответствии с которыми существовали протекционистские пошлины на ввозимое в индустриальную Англию продовольствие, что, естественно, било по карману бедняков. Английским же промышленникам отмена протекционистских законов была необходима, чтобы в обмен за это получить свободный доступ на рынки стран, покупавших их продукцию. Приняв решение вопреки большинству голосов собственной партии, Пиль не только встал на сторону промышленной буржуазии; он учитывал также настроения масс, такой фактор, как чартистское движение.
Противниками Пиля в партии были так называемые «ультра» — могущественная группировка консерваторов-землевладельцев во главе с Р. Вивианом, маркизом Чандосом, Э. Нэтчбуллом. Вместе с ними против Пиля выступали «тори-радикалы», аристократы из общества «Молодая Англия», у которых ностальгия по «доброй старой Англии» сочеталась с расчетом привлечь на свою сторону политически незрелых рабочих, страдавших от ужасов капиталистической эксплуатации. Кроме того, наиболее дальновидные из тори-радикалов, в частности их идеолог, выходец из мелкобуржуазной среды Б. Дизраэли, опасались, что из-за компромиссной линии Пиля консервативная партия утратит свое лицо и будет поглощена вигами. Следствием внутренней борьбы между либеральной и традиционалистской тенденциями стал раскол партии в 1846 г. Пиль в известной мере опередил время; синтез феодальной аристократии и промышленной буржуазии еще не завершился даже в самой развитой стране тогдашнего мира. Что же касается его противников, они со своей традиционалистской риторикой, тягой к сохранению феодальных иерархических институтов и ценностей напоминали континентальных собратьев. Правда, английские «ультра» могли сойти на континенте за либералов.
Во Франции периода реставрации Бурбонов (1815—1830) практически безраздельно доминировали ультрароялисты; собственно от них и происходит термин «ультра». На французской же почве оформился и термин «консерватор» — так назвал свой журнал в 1818 г. Р. Шатобриан, в политической позиции и взглядах которого консерватизм переплетался с реакционным романтизмом, причем романтиком этот видный литератор был в большей мере, чем консерватором. «Ультра» стремились к утопической цели реставрации «старого режима», подразумевая под этим возврат к временам Генриха IV, а еще лучше — к раннему средневековью, эпохе крестовых походов, странствующих рыцарей и трубадуров. Их фантасмагорические устремления совпадали с целями Карла X, попытавшегося восстановить всевластие монархии, что вызвало революционный взрыв в июле 1830 г. После повторного свержения династии Бурбонов ее сторонники, часть аристократии, мелкое дворянство и клир, не сложили оружия и заняли место на крайне правом фланге политической структуры Июльской монархии (1830—1848), возглавляемой представителем Орлеанской династии Луи-Филиппом. Как отмечает известный французский историк Р. Ремон, 1830 год разделил правый лагерь на более умеренную орлеанскую правую и крайне правый традиционализм63.
Либерализм консерваторов умеренного типа был крайне ограниченным. В сущности, он допускал некоторое расширение элиты за счет крупной буржуазии и одаренных представителей буржуазной интеллигенции. Участие в политической жизни оставалось уделом немногих, даже голосовать имели право, можно сказать, не избиратели, а избранные: с 1830 по 1846 г. электорат увеличился с 99 тыс. до 224 тыс. из 35 млн. населения. Еще меньше было сделано в сфере социальной. За время пребывания у власти правительства Ф. Гизо (1842—1848), писал английский историк Вудворд, «не было принято ни одной заслуживающей внимания социальной меры. Даже робкие попытки экономических реформ обычно гасились страхом задеть права собственности»64. В этом смысле Гизо недалеко ушел от Меттерниха, с которым у него установились весьма дружеские отношения, особенно после 1848 г., когда оба бежали от революции. Отвечая на обвинения в равнодушии к беднякам, Гизо предлагал свой знаменитый рецепт: «Обогащайтесь!» Либерально-консервативный режим Июльской монархии с легкостью рухнул под ударами революции 1848 г. в значительной мере из-за своей ограниченности.
У либерального консерватизма еще не было сколько-нибудь серьезной социальной базы. Он не был своим для умеренных кругов аристократии, и не стал он еще своим и для значительной части буржуазии, так как привел к власти старую финансовую олигархию; промышленная буржуазия оставалась в стороне.
Деление на «ультра» и либеральных консерваторов стало со временем характерным и для других стран Европы. Особенно четко оно прослеживается в Испании с 30-х годов. Конституционно-династический конфликт после смерти Фердинанда VII обострил борьбу в правящем лагере. Консервативные силы Испании были представлены прежде всего партией «модерадос» или умеренными, позиции которых во многом совпадали со взглядами Гизо. Насколько узкой была база либерального консерватизма, можно судить по тому факту, что право голоса имели лишь 18 тыс. богатых и образованных избирателей (0, 15% населения страны65).
«Ультра», крайне правые консерваторы-традиционалисты, сгруппировались вокруг младшего брата покойного короля Фердинанда VII дона Карлоса, который оспаривал право на трон у дочери короля Изабеллы II. Дело дошло до ожесточенной гражданской войны, причем на стороне испанских «ультра» сражался своеобразный «иностранный легион» из единомышленников, предоставлявших разные страны Европы. Под знаменем карлистов (по имени дона Карлоса) выступали французские «ультрароялисты» и прусский князь Ф. Лихновски. Один из деятелей «Молодой Англии» лорд Мэннорс тоже ездил к карлистам и написал сонет в честь претендента66.
В Пруссии столкновение либерально-консервативной и ультраконсервативной тенденций достигло наибольшей остроты в годы, последовавшие за позорными поражениями от войск Наполеона при Иене и Ауэрштадте (1806). Раздражителем огромной силы стали для прусских традиционалистов реформистские замыслы и действия барона фон Штейна, возглавлявшего прусское правительство в 1807—1808 гг. Вождем ультраконсервативной оппозиции оказался Ф. А. фон Марвиц, о котором Ф. Энгельс писал как о человеке «непоколебимой веры в чудодейственную силу пяти ударов кнута, когда дворянство применяет их против плебса»67.
Между тем фон Штейн отнюдь не покушался на господство помещиков-юнкеров, предлагая отменить лишь некоторые из их привилегий, возбуждавших особое недовольство крестьян, мешавших капиталистическому развитию и даже просто нормальному функционированию государственно-бюрократического аппарата Пруссии. Высокую оценку фон Штейн давал Берку: «Этот великий, умудренный опытом и достойный почитания за свой благородный характер государственный деятель с силой и увлекательным красноречием защищал в своем бессмертном труде «Размышления о революции во Франции» закон и религиозную свободу против метаполитических новаторов, опустошавших Францию»68. Тем не менее Марвицу и ему подобным сторонник либерально-консервативных реформ казался опасным якобинцем. «Штейн начал революционизацию нашего отечества, — утверждал Марвиц, — войну неимущих против собственности, индустрии против сельского хозяйства, толпы против стабильных элементов, грубого материализма против порядка, установленного богом, корысти против закона, настоящего против прошлого и будущего, индивида против семьи... бюрократии против связей и отношений, укорененных в истории страны»69. Марвиц и его единомышленники твердо стояли за сохранение высоких барьеров между дворянством и буржуазией, видя в борьбе против индустриального развития извечный спор «героического духа против меркантильного», решительно отвергая «западную идею равенства»70.
Линия Марвица оказалась более устойчивой в истории прусско-германского консерватизма, чем линия Штейна. Не без основания американский ученый Г. Крейг усматривает в Марвице предшественника реакционеров из Союза сельских хозяев в кайзеровском рейхе, той камарильи аристократов-землевладельцев, которая группировалась вокруг президента Гинденбурга и сыграла столь роковую роль в установлении гитлеровской диктатуры.
В период феодально-абсолютистской реакции, наступившей после наполеоновских войн, либерально-консервативные тенденции в Пруссии почти совсем зачахли. Успокоились и прусские ультраконсерваторы. Начиная с 30-х годов XIX в. ведущая роль в развитии консервативной идеологии принадлежала политическим деятелям из придворных кругов романтически-консервативно настроенного короля Фридриха Вильгельма IV. Главными фигурами прусского консерватизма были братья Герлахи, занимавшие видные посты в военной и бюрократической иерархии, а также философ-правовед Ф. Ю. Шталь.
Среди прусских традиционалистов наиболее популярными были теоретические построения швейцарского правоведа К. Л. Галлера. Они ставили этого бернского патриция в один ряд с главными идеологами консерватизма эпохи Реставрации. «И какая еще земля в мире могла бы похвалиться тем, что она, подобно Швейцарии, произвела плод столь сочного легитимизма»71, — писал о нем К. Маркс. Галлер привлек внимание прусско-германских легитимистов прежде всего своим прославлением мелкодержавного абсолютизма. Власть государей, по его теории, проистекает не из «общественного договора», а в силу естественного превосходства сильного над слабым. Князьями же сразу становились наиболее сильные и одаренные: их право па власть не нуждалось в какой бы то ни было общественной санкции; оно обретало частноправовой характер. «Князья, — излагает воззрения Галлера Б. Н. Чичерин, — не имеют над собою высшего, кроме бога, а потому подчиняются только божественному, а не человеческому закону и никому не обязаны давать отчет в своих действиях. Народам нечего опасаться такого преимущества; по природе вещей оно иначе быть не может, следовательно, это — божественное установление, а божественное установление ни для кого не может быть вредно»72. Здесь Галлер смыкается с французскими теократами и признает, что духовная власть имеет приоритет над светской, как душа по отношению к телу. По сути дела, Галлер стремился к реставрации средневековых монархий, при которых государственное право было частным правом власть имущих.
Ф. Ю. Шталю воззрения Галлера казались архаичными. Правда, его резкая критика швейцарского правоведа объяснялась не только принципиальными разногласиями, но и интеллектуальным соперничеством. Шталь в своих трудах пытался синтезировать католический принцип авторитета, развитый консерваторами-теократами, с принципом свободы, как он понимался в протестантской религии. Фактически речь шла о том, чтобы очистить столь близкий сердцу консерваторов принцип авторитета от крайней религиозной нетерпимости, характерной для де Местра и де Бональда, и сочетать монархическую власть с элементами конституционализма. И все же де Местр был ближе Шталю, чем Берк. Местровское обоснование легитимизма, па его взгляд, «самое истинное, исчерпывающее и простое»73. Восхваляя Берка за опыт, практицизм, решительную борьбу против Французской революции, Шталь полагал, что Берк «гораздо менее ценен, когда речь идет о спекулятивном обосновании, здесь его не сравнить с де Местром»74. Кроме того, Берк готов оправдать революцию, если она исторически, по его мнению, мотивирована (т. е. 1688 г.), для Шталя это уже слишком. Несмотря на критику Галлера, Шталь тоже считал необходимым сохранить сословно-корпоративное представительство средневекового типа.
При всем своеобразии американского консерватизма в нем можно обнаружить определенные параллели с европейскими разновидностями этого явления. Долгое время американским исследователям и идеологам было свойственно стремление отмежеваться от консерватизма как идеологии и политики, чуждой исконному демократизму США. Проповедуя исключительность американского пути исторического развития, они утверждали, что в Новом Свете нет места крайностям революции и реакции75. Такой взгляд особенно четко отразился в концепции американского ученого Л. Харца. Главной чертой американского общества, не знавшего феодализма, он считает изначальный либерализм, поэтому в США отсутствует та революционная традиция, какая, сложилась в европейских странах, где глубоко укоренившиеся феодальные отношения были опрокинуты буржуазными революциями, а там, «где не было Робеспьера, нет места и для де Местра»76.
Иного взгляда придерживается американский исследователь консерватизма К. Росситер. Он обнаруживает зачатки консерватизма еще в колониальном периоде американской истории у пуританской олигархии, во многом определявшей духовную жизнь колонистов, у американских тори и консервативных вигов, следовавших британским образцам: «Решительные консерваторы были еще до Джона Адамса, а преуспевающие правые еще до федералистом». В самой американской конституции Росснтер видит «триумф консерватизма»77, но не реакции. С ним согласен и другой американский автор П. Вирек: «... наша конституция представляет беркианскую, а по реакционную ветвь консерватизма»78.
Принципиальная особенность американского консерватизма определяется тем фактом, что он созрел на почве преимущественно капиталистических отношений. В международном контексте генезиса консерватизма американский пример подтверждает, что природа консерватизма шире, нежели феодально-абсолютистская реакция, что консервативный потенциал заложен уже в раннем капитализме.
Ключевыми фигурами американского консерватизма периода становления США считают двух из «отцов-основателей»: Дж. Адамса (1735—1826) и А. Гамильтона (1757—1804). Первого из них связывают с умеренной ветвью консерватизма. Наряду с Д. Мэдисоном Дж. Адамс, по словам П. Вирека, был сторонником промежуточной линии между «джефферсоновской демократией и гамильтоновской аристократией»79. Что же касается Гамильтона, Росситер пишет о нем так: «Ни один американец не стоял столь беззаветно за правление мудрых, добрых, богатых»80. За склонность к монархическому образу правления и наследственной аристократии он даже относит Гамильтона к числу реакционеров.
Если Дж. Адамса можно в известной мере поставить в один ряд с европейскими консерваторами, а точнее сказать — с Берком, то для Гамильтона европейские мерки менее уместны. «В основе политических взглядов Гамильтона, — отмечал американский ученый В. Л. Паррингтон, — лежала традиционная психология тори». Но вместе с тем он, по словам того же Паррингтона, «проявил ясное понимание характера экономического переворота, которому предстояло превратить Америку из страны аграрной в индустриальную; призывая государство способствовать такому развитию, он указал путь, по которому Америка идет до сих пор»81.
Существенным своеобразием отличался и традиционалистский консерватизм американского плантаторского Юга. Для США Юг означал нечто подобное пережиткам феодализма в Европе. Южане выдвинули из своей среды таких видных идеологов и практиков, как Д. Кэлхун (1782—1850) и Д. Фицхыо (1806—1881). Виреку Д. Кэлхун, с одной стороны, напоминает Берка своей привязанностью к родным местам, стремлением отстоять их самобытность под напором северного федерализма. Кэлхун восхвалял идеалы демократии, когда речь шла о специфических правах южан-плантаторов, был озабочен созданием такого порядка, при котором эти права реакционного меньшинства остались бы неприкосновенными.
Стойким приверженцем «патерналистского правления, святости традиций и прелестей стабильности» был, по словам Росситера, политический философ-южанин Д. Фицхью, сожалевший, что Америка — страна, не подходящая для монархии, и восхвалявший замкнутое иерархическое общество в феодальном стиле.
Уже в ранний период эволюции консерватизма складываются существенные элементы консервативного мировоззрения, сохраняющиеся в модифицированном виде до наших дней. Речь идет о консервативном подходе к проблемам общества, человека, истории. Вследствие присущего консервативной идеологии эклектизма приходится говорить скорее о наборе положений, догматов, чем о логически связанной системе. У консервативных мыслителей встречаются обычно лишь разрозненные элементы этого набора. Выяснять логические связи между ними они предоставляют своим идейным противникам и критикам.
У консерваторов «первого часа» идеологические принципы сформулированы весьма откровенно, поскольку это было сделано в острейшей и непосредственной конфронтации с идеологией Просвещения и буржуазным либерализмом. Кроме того, их писания были адресованы узкому кругу читателей, в основном близким по духу; общественного мнения в современном смысле слова тогда еще почти не существовало и оно не могло оказывать сколько-нибудь сильного давления на идеологов.
Фактически все основные положения консервативной идеологий возникли в качестве антитезы соответствующим положениям идеологии Просвещения. Наибольший гнев консерваторов вызывал выдвинутый Ж. Ж. Руссо принцип народного суверенитета, подрывавший морально-правовые основы феодально-абсолютистского порядка, положение о божественном происхождении монархической власти. В отрицании народного суверенитета сходились все консерваторы, невзирая на идейные или политические разногласия по иным «опросам. Так, Э. Берк считал, что народный суверенитет — «самая фальшивая, безнравственная и злонамеренная доктрина, которая когда-либо проповедовалась народу»82. Особенную настойчивость в борьбе против народного суверенитета проявляли теократы. Для де Местра народный суверенитет — «антихристианская догма», тогда как «божественное происхождение суверенитета — консервативная догма государств». «Суверенитет, — подчеркивает де Местр, — для нас вещь священная, эманация божественного могущества»83. Суверенитет не может исходить ни от народа, ни от человека; он не может быть ограничен; он абсолютен и непогрешим. Король и аристократия формируют исходящий от бога суверенитет. Трактовку проблем происхождения и природы суверенитета итальянский социолог Б. Брунелло считает центральной в политической концепции де Местра84.
Поскольку принцип народного суверенитета имеет рационалистическое обоснование, то его противники обрушиваются и на разум. Вообще вся полемика консерваторов с Просвещением проникнута духом иррационализма и агностицизма. Рационализм, по убеждению де Местра, более ограничен, чем религия; он не может объять всю жизнь человека, его веру, глубокую тайну, которая окутывает человеческие судьбы85. Подчинение разума вере благодетельно для человечества, полагал де Бональд. Религия, желая подчинить разум вере, заботится о человеческой доброте, ведь разум пробуждает в человеке эгоизм, страсть к господству и прочие вредные наклонности86. «Если нет иного авторитета, чем разум, тогда революция должна быть естественным состоянием общества, а интервалы покоя и порядка могут быть только исключением», — писал Генц87.
Только принесением разума в жертву вере можно обосновать ключевое положение консерватизма и его догматики — принцип авторитета. Авторитет, по де Местру, предшествует разуму. Вообще разум не в состоянии быть руководством для людей, так как очень немногие могут здраво рассуждать, никто не может здраво судить обо всем, поэтому авторитет — начало всех начал88. В понятие «авторитет» де Местр включает порядок, разум, меру. Источником авторитета, как и суверенитета, является бог, поэтому авторитет в консервативном истолковании неотделим от верховной суверенной власти. Хотя и не в столь откровенной феодально-аристократической и теократической форме он характерен и для меттерниховской системы.
Противопоставленный народному суверенитету, авторитет базировался также на таком принципе консерватизма, как традиционализм. Суть консервативного традиционализма великолепно раскрыл К. Маркс, говоря об исторической школе права, «которая подлость сегодняшнего дня оправдывает подлостью вчерашнего, которая объявляет мятежным всякий крик крепостных против кнута, если только этот кнут — старый, унаследованный, исторический кнут»89. С точки зрения де Местра, оправданием свергнутой революцией монархии, ее преимуществом перед республикой является тот факт, что за ней четырнадцать веков истории. Одно из самых тяжких обвинений по адресу революции заключается в том, что она разбила все традиции, заменив их народным суверенитетом. Даже варвары, жалуется де Местр, «лучше понимали здравый смысл веков, чем это позволяет нам наша спесь»90. При более трезвом отношении к прошлому Берк тем не менее тоже черпает в опыте предков аргументы против ненавистной Французской революции. В традиции он усматривает мудрость бога, действующего через человеческий опыт, под которым подразумеваются не знания и разум, а чувства и предрассудки.
Хотя консервативный традиционализм является реакционным стремлением увековечить в чувствах и сознании людей представления об исторической неизбежности эксплуататорских отношений господства и подчинения, в нем содержится серьезный психологический потенциал воздействия на массовое сознание. «Над различными формами собственности, — отмечал К. Маркс, — над социальными условиями существования возвышается целая надстройка различных и своеобразных чувств, иллюзий, образов мысли и мировоззрений»91. Среди них немалое место занимают иллюзии и предрассудки, связанные с идеализацией прошлого, влиянием системы феодальноаристократических ценностей. Все это дает возможность консерваторам находить отклик и сторонников в массовых слоях населения. Без учета этого психологического фактора нельзя объяснить устойчивую способность консерваторов формировать солидную массовую базу.
Существует довольно тесная взаимосвязь между традиционализмом и «органическим» представлением об обществе, свойственным консервативной мысли. В соответствии с ним человеческое общество существует изначально, подобно органической природе, а не возникает в результате социальной эволюции. Его происхождение объясняется естественным ходом вещей; тем самым подразумевается, что всякое изменение будет иметь противоестественный характер. По своему строению общество напоминает организм. Внутри него существует функциональное и, соответственно, социальное деление людей; общество переживает молодость, зрелость, старение. Из всего этого вытекает естественный характер неравенства людей; ведь их место и функции в общественном организме отличаются друг от друга. Органический подход предполагает также естественность жесткого иерархического порядка, где каждый сверчок должен знать свой шесток. Идеальное государство, по словам Галлера, — это организм, «в котором ни один член не существует сам для себя, но каждый живет для всех других и служит не себе, а всем остальным, благодаря чему сохраняется здоровье и крепость индивида как всего тела, так и отдельных его членов»92. В свою очередь, нездоровье какого-то одного элемента опасно для общественного организма в целом. Тем самым навязывается мысль, что всякие беспорядки, а особенно революции, не принесут ничего, кроме вреда. Нетрудно заметить, что органическое представление об обществе у консерваторов является отражением феодально-сословных, корпоративистских порядков.
Руководствуясь органическим подходом, консерваторы того времени в отличие от либералов фактически не проводили различия между государством и обществом, иначе им пришлось бы признать необходимость целого комплекса буржуазно-демократических свобод, которые обеспечивают права личности в гражданском обществе по отношению к государству. «Человек — ячейка большого живого организма, который растет, подобно деревьям, на протяжении веков» — так излагает взгляды де Местра французский политолог М. Ганзэн93. Незнатному, небогатому человеку должно быть явно неуютно в таком иерархическом общественном организме, закрепляющем неравенство людей. Но участь индивида не волнует пекущегося о реставрации божественного авторитета французского консерватора-теократа.
Такое отношение к рядовому индивиду логически следует из консервативной трактовки человека, на которой лежит отпечаток антигуманистических, аристократических и религиозных предрассудков. В свою очередь, из этого отношения вытекает мрачный взгляд на человека как на вместилище греховных устремлений. Отправным пунктом в истолковании человека для де Местра является тезис о «первородном грехе», тяжесть которого вечно лежит на человечестве.
В контекст рассмотренных выше консервативных взглядов на общество н человека органично вписываются элитизм и антидемократизм.
То, что большинство людей обречено на рабское состояние, с точки зрения консерваторов, неумолимо вытекает из традиции, из самой природы человека. Вопреки утверждениям Руссо, пишет де Местр, человек отнюдь не рождается свободным: «Во все времена и повсюду до учреждения христианства и даже после того, как эта религия достаточно проникла в сердца людей, рабство всегда рассматривалось как обязательный элемент правления и политического состояния наций как в республиках, так и в монархиях»94. А тот, кто достаточно хорошо изучил печальную природу вещей, продолжает он свою мысль, «знает, что человек... слишком зол для того, чтобы быть свободным»95.
Неравенство людей — аксиома консервативной идеологии и политики. Но в отличие от континентальных собратьев англосаксонским консерваторам, жившим в странах с относительно высоким уровнем буржуазных свобод, приходилось тратить больше усилий для обоснования необходимости неравенства. В основном их усилиями была введена в оборот антиномия «равенство — свобода».
Равенство, по Берку, — враг свободы. При этом он исходит ил соображений буржуазно-либеральною характера, имея в виду прежде всего равенство экономическое, которое несовместимо со свободой конкуренции96.
Элитарная трактовка соотношения равенства и свободы была развита консерватором-южанином Кэлхуном, который утверждал, что «сделать равенство общественного положения необходимым условием свободы значит уничтожить как свободу, так и прогресс... несомненно, именно неравенство общественного положения верхов и низов служит в процессе развития общества весьма сильным стимулом, побуждая первых сохранять свое положение, а вторых стремиться пробиться наверх, в ряды первых»97.
Фактически речь идет о свободе для родовитых и имущих, так как, с точки зрения консерваторов, равенство — угроза свободе пользоваться привилегиями знатности н богатства. То, что противоречит такому пониманию свободы, провозглашается тиранией, деспотизмом и т. п.
Важным элементом консервативного мировоззрения является исторический пессимизм. В принципе по так уж мало мыслителей начиная с глубокой древности видели «золотой век» в прошлом, с презрением взирали на настоящее и без всякой надежды на будущее. Это роднит консерваторов с идейными течениями самого отдаленного прошлого, порождает тот эффект узнавания, о котором речь шла в начале главы.
Однако исторический пессимизм зачинателей консерватизма имел конкретное, обусловленное временем содержание. Им была свойственна не ностальгия по прошлому вообще, а тоска по конкретному общественному порядку, рушившемуся под напором истории; выступали они не против нового вообще, а против конкретных социальных сил, воплощавших это новое. В древние времена движение прогресса настолько растягивалось во времени, что его трудно было уловить в течение жизни одного или даже нескольких поколений. Теперь же изменения сути и духа времени неоднократно фиксировались на протяжении одной человеческой жизни.
Де Местр противопоставлял идее прогресса провиденциалистское понимание хода истории. Он отвергал оптимизм философов Просвещения, веривших в человека, его разум. «Философия истории де Местра, — говорит его современный итальянский поклонник, — определенно не для просветителей или для слабых духом»98. О каком прогрессе можно говорить, полагал де Местр, если человек вследствие своей порочной натуры обречен на зло и страдание. На то и воля божья, а поскольку история — дело Провидения, она — «первый министр бога по департаменту этого мира»99.
Меттерниху больше импонировало представление об историческом процессе как круговороте: «Общественные тела движутся не по прямой линии вперед, а по кругу» ,100. Рассматривая исторические взгляды Меттерниха, его биограф Г. Р. фон Србик видит в них черты сходства с провозвестником упадка Запада О. Шпенглером101.
У консерватизма много точек соприкосновения с реакционным романтизмом. Между сторонниками этих течений существовала подчас настолько тесная идейная н личная уния, что их трудно разграничить. Не случайно многие видные романтики фигурируют в двух ипостасях: собственно романтики и консерваторы. Их имена можно найти и в идейно-политической истории консерватизма, и в истории культуры как таковой. Речь идет, в частности, о таких литераторах, философах, публицистах, как Новалис, А. Мюллер и Ф. Шлегель — в Германии, Р. де Шатобриан — во Франции, С. Т. Кольридж, Т. Карлейль, Р. Саути — в Англии. Конечно, этот список мог быть продолжен, но он и так достаточно показателен.
Особенно тесные контакты между романтизмом и консерватизмом сложились в Германии. Видный представитель романтизма, политический публицист А. Мюллер (1779—1829) был ближайшим другом Ф. Генца; сначала он поставил свое перо на службу одному из лидеров прусской реакции Марвицу, а затем и самому Меттерниху.
Важным связующим звеном между консерватизмом и реакционным романтизмом являлся так называемый «феодальный социализм». После французской революции 1830 г. надежды на реставрацию «старого порядка» стали совсем призрачными и аристократия начала менять свой курс. Она, по словам К. Маркса и Ф. Энгельса, «должна была сделать вид, что... уже не заботится о своих собственных интересах и составляет свой обвинительный акт против буржуазии только в интересах эксплуатируемого рабочего класса. Она доставляла себе удовлетворение тем, что сочиняла пасквили на своего нового властителя и шептала ему на ухо более или менее зловещие пророчества»102. Критика капитализма со стороны аристократии и ее идейных союзников носила ярко выраженный реакционный характер: «их главное обвинение против буржуазии именно в том и состоит, что при ее господстве развивается класс, который взорвет на воздух весь старый общественный порядок»103. Поэтому в своем споре с буржуазией аристократия хотела бы использовать рабочий класс, но в то же время, испытывая страх перед революционным пролетариатом, она соучаствовала в насильственных акциях против него. В качестве примеров такой теории и практики в духе «феодального социализма» К. Маркс и Ф. Энгельс приводили французских легитимистов — сторонников свергнутой династии Бурбонов и «Молодую Англию».
Так, французские легитимисты выражали сочувствие рабочим-повстанцам Лиона, по которым король-буржуа Луи Филипп приказал стрелять из пушек. На страницах своей газеты легитимисты обсуждали «рабочий вопрос», распространяли среди рабочих памфлеты, направленные против буржуазии104. Р. де Шатобриан, олицетворявший живую связь романтизма и консерватизма, вынашивал идею союза монархии с низами против амбициозной буржуазии105.
Ужасы индустриализации, капиталистический дух осуждал известный английский поэт «озерной школы» Р. Саути. Буржуазия из-за своей скаредности и близорукости, отмечал он, разрушает устоявшийся порядок вещей; спасение от этого капиталистического натиска — в «грубоватом, но зато более сердечном принципе феодальной системы»106. «Добрую старую Англию» воспевал другой поэт-романтик, С. Т. Кольридж; Англии фабричных труб он противопоставлял Англию маленьких деревушек, населенных добрыми селянами, которые едят домашний хлеб и пьют домашний эль. Правда, когда Кольридж спускался с поэтических высот к неприятной действительности, то единственное, что он мог предложить англичанам, это отказаться пить чай107. Многие идеалы романтиков были близки идеологу «Молодой Англии», делавшему свои первые шаги в политике литератору Б. Дизраэли. Его биограф Р. Блейк ставит своего героя в один ряд с такими романтическими консерваторами, как Кольридж и Карлейль108.
Консервативно-романтической дымкой окутана и вся история «Молодой Англии», созданной в 1841 г. Б. Дизраэли и двумя молодыми аристократами Д. Смитом и Д. Мэннерсом. Рисуя в идиллических тонах феодальные порядки с их «сердечными» отношениями между лордами и крестьянами, члены «Молодой Англии» указывали на тяжкие условия фабричного труда, на вопиющую нищету рабочих, разделившую, по знаменитому выражению Дизраэли, англичан на «две нации» — богатых и бедных. Однако, в отличие от континентальных «феодальных социалистов», Дизраэли и его знатные друзья лучше понимали невозможность реставрации феодализма в какой бы то ни было форме. Да и представить себе такое «путешествие в прошлое» в стране, где завершался промышленный переворот, а буржуазная революция произошла два столетия тому назад, было немыслимо. В сущности, «феодально-социалистическая» риторика была призвана нащупать пути осуществления такого политического курса, который позволил бы консерваторам сохранить лицо и в то же время обеспечить себе массовую базу.
Германский консервативный романтик А. Мюллер проводил мысль о том, что аристократия, романтическая интеллигенция и пролетариат едины в том, что они не буржуазны и находятся в противоречии с товарным обществом; он критиковал свойственную капиталистическому хозяйству тенденцию к превращению людей в «колеса, винтики, валки, спицы и прочие механизмы». В критике капитализма Мюллер даже несколько перегнул палку, вызвав неудовольствие своего патрона Меттерниха, который назвал его «прирожденным социалистом»109.
Видный прусский консервативный политический деятель Й. М. Радовиц советовал королю Фридриху Вильгельму IV использовать рабочее движение против буржуазии. «Кто желает действительной реставрации, — говорил Радовиц, — тот должен осушить и вспахать заново состоящее из пролетариата болото, от которого исходят смертельные испарения»110. Такая идея была не чужда позднее и О. фон Бисмарку. Но страх перед пролетариатом пересилил эти стремления.
Маневрирование в духе «феодального социализма» не принесло ожидаемых результатов. «Аристократия, — писали К. Маркс и Ф. Энгельс, — размахивала нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы повести за собою народ. Но всякий раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным хохотом»111.
В модернизированном виде некоторые элементы «феодального социализма» закрепились в идейно-политическом арсенале консерваторов и были восприняты так называемыми «социальными консерваторами», серьезно относившимися к «рабочему вопросу».
Менее стойким оказался другой признак, характерный для изначального консерватизма, — аристократический космополитизм. В его основе лежала своего рода консервативная солидарность династий, аристократических семей, связанных родственными узами, традицией службы за границей разным государям и, конечно, прежде всего «великим страхом», порожденным Французской революцией. Попыткой реального воплощения идеи «консервативной солидарности», аристократического космополитизма как раз и была система Меттерниха. Не говоря уже о внутренних слабостях, эта система не выдержала напора новой мощной силы — буржуазного национализма.
11Godechot J. Contre-revoluti on: Doctrine et action, 1789— 1804. P., 1961. P. 70.
12Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 46.
13См.: Burke Е. The Works. L., 1872. Vol. II. P. 409.
14Ibid. P. 307.
15Ibid. P. 553.
16Ibid. P. 427—428.
17Ibid. P. 304, 305.
18Чичерин Б. H. История политических учений. М., 1874. Ч. 3. С. 237.
19См.: Freeman М. Edmund Burke and the Critiaue of Political Radicalism. Chicago, 1980. P. 162
20Macpherson С. B. Burke. Oxford, 1980. P. 3.
21Ganzin M. La pensee politique d’Edmund Burke. P., 1972. P. 343.
22Ibid. P. 347.
23Ibid. P. 346-347.
24Мишель А. Идея государства. М., 1909. С. 176.
25Godechot J. Op. cit. P. 111.
26Maistre J. de. Textes choisis et presentes par E. M. Cioran. P., 1957. P. 30.
27Maistre I. de. Du Pape. P., 1817. P. 382.
28Ibid. P. 57, 158.
29Ibid. P. 222.
30Maistre J. de. Textes choisis... P. 56.
31Ibid. P. 165.
32Bonald L. A. de. Theorie du pouvoir politique et religieux. P., 1966. P. 227.
33Ibid. P. 190, 51.
34Ibid. P. 218.
35Ibid. P. 37.
36Ibid. P. 107, 257.
37См.: Brunello B. Joseph de Maistre politico e filosofo. Bologna, 1967. P. 122—124.
38См.: Maistre ]. de. Textes choisis... P. 39—40.
39См.: Bonald L. A. de. Op. cit. P. 200, 201.
40Cм.: Ibid. P. 205.
41Цит. по: Kissinger H. A. A World restored. L., 1964. P. 196.
42Paleologue M. Drei Diplomaten. Talleyrand, Metternich, Chateaubriand. B., 1925. S. 125.
43Ibid.
44Srbik H. R. von. Metternich — der Staatsmann und der Menscli. Munchen, 1925. Bd. 1. S. 144.
45Kissinger H. A. Op. cit. P. 12.
46См.: PaUologue M. Op. cit. S. 108.
47См.: Woodward E. L. Three Studies in European conservatism. L., 1920. P. 36.
48Aus Metternich’s nachlassenen Papicren. Bd. 7. S. 635— 637.
49Paleolague M. Op. cit. S. 106.
50Gentz F. Von dem politischen Zuslande von Europa vor und nach der Franzosischen Revolution. B., 1801. S. 189, 191— 192.
51Baxa J. Friedrich Genlz. Wien, 1965. S. 225.
52Aus Melternich’s nachlassenen Papieren. Bd. 3. S. 415.
53Ibid. Bd. 8. S. 562.
54Baxa J. Op. cit. S. 172.
55Ibid. S. 267.
56Ibid. S. 268.
57Ibid. S. 280.
58Ibid. S. 282.
59The Conservatives: A History from their Origins to 1905. L., 1977. P. 21.
60Norton Ph., Aughcy A. Conservatives and Conservatism. L., 1981. P. 94.
61Stewart R. The Foundation of the Conservative Parly, 1830-1867. L., N. Y., 1978. P. 101.
62Blake R. The Conservative Party from Peel to Churchill. L., 1970. P. 207.
63Remond R. La droile cn France: De la Premiere restauration a la Vrepublique. P., 1963. P. 77.
64Woodward E. L. Op. cit. P. 201.
65Payne S. G. Spanish Conservatism, 1834—1923 // Journal of Contemporary History. 1978. Vol. 13, N 4. P. 768.
66Blake R. Disraeli. L., 1966. P. 170.
67Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 38. С. 411.
68Stein Н. von. Briefswechsel, Denkschriften und Aufzeichnungen. B., 1931—1932. Bd. 3. S. 616-617.
69Craig G. A. The End of Prussia. Madison, 1984. P. 23.
70Neumann S. Die Slufen des preussischen Konservatismus. B., 1930. S. 50.
71Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 43.
72Чичерин Б. // История политических учений. М., 1877. Ч. 4. С. 221.
73Stahl F. J. von. Die Philosophic des Rechts. Heidelberg, 1833, Bd. II. S. 3.
74Rekonstruktion des Konservatismus. Freiburg im Br. 1972. S. 175.
75Об американском консерватизме подробнее см.: Гаджиев К. С. Эволюция основных течений американской буржуазной идеологии. М., 1982; Мельвиль А. Ю. Социальная философия современного американского консерватизма. М., 1980.
76Hartz L. The Liberal Tradition in America. N. Y., 1955. P. 5
77Rossiter C. Conservatism in America. N. Y., 1955. P. 101, 108.
78Viereck P. Conservatism from John Adams to Churchill. Princeton, 1956. P. 91.
79Viereck P. Op. cit. P. 91—92.
80Rossiter C. Op. cit. P. 112.
81Парриттон В. Л. Основные течения американской мысли: В 4 т. М., 1962. Т. 1.
C. 373.
82См.: Freeman М. Op. cit. Р. 126.
83Maistre J. de. Du Pape. P. 152, 157, 149.
84См. : Brunello B. Op. cit. P. 124-125.
85Ibid. P. 174.
86См.: Bonald L. A. de. Op. cit. P. 235.
87Briefwecksel zwischen Friedrich Gentz und Adam Muller. Stuttgart, 1857. S. 276.
88См.: Brunello B. Op. cit. P. 294.
89Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 416.
90Maistre J. de. Du Pape. P. 215.
91Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 145.
92Цит. по: Чичерин Б. Н. История политических учений. 4. 4. С. 229.
93Ganzin М. Op. cit. Р. 393.
94Maistre J. de. Du Pape. P. 267-268.
95Ibid. P. 268.
96См.: Freeman M. Op. cit. P. 68.
97Цит. по: Паррингтон В. Л. Указ. соч. Т. 2. С. 100.
98Brunello В. Op. cit. Р. 95.
99Schmitt К. Politisclie Romantik. Munchen; Leipzig, 1925. S. 162.
100Aus Metternich’s nachlassenen Papieren. Bd. 8. S. 164.
101Srbik H. R. von. Op. cit Bd. 1. S. 356.
102Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 448.
103Там же. С. 449.
104См.: Remond R. Op. cit. P. 72.
105Ibid. P. 55.
106Preece K. The Anglo-Saxon Conservative Traidition // Canadian Journal of Political Science. 1980. Vol. 13, N 1. P. 26.
107См.: O’Sullivan N. Conservatism. L., 1976. P. 83—84.
108См.: Blake R. Disraeli. P. 210.
109Цит. no: Kaltenbrunner G. -K. Der schwierige Konservatis- mus: Definitionen, Theorien, Portrats. Herford; [West] Berlin, 1975. S. 215.
110Цит. по: Neumann S. Op. cit. S. 144.
111Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 448.
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 18651
Другие книги
Редакция рекомендует
Пропаганда до 1918 года




От Первой до Второй мировой




Реклама
pin up казино официальный . Ваш питомец выбирает - супер качественный корм buddy sol вся информация на ozon.ru. . Таргетированная реклама - через сервис мтс маркетолог на sostav.ru.Вторая мировая



После Второй Мировой




Современность