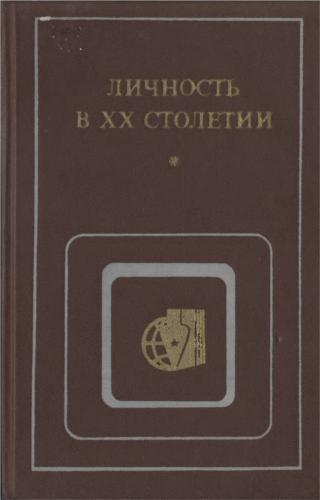Если сопоставить написанное против «личности» от имени «лица» в книге о конце Нового времени с тем, что сказано против «самости», например, в «Диалектике просвещения» Хоркхаймера и Адорно22, то можно констатировать следующее. С одной стороны, имеет место известное сходство «антиличностной» ориентации авторов обеих книг в том смысле, что «личность» не рассматривается ими ни как единственная, ни даже как наиболее оптимальная форма внутреннего конституирования человека. В описаниях ситуации, в которой оказалась буржуазная личность в XX в., нельзя не заметить чувства удовлетворения, отдающего «рессентиментом», у Хоркхаймера и Адорно менее, у Гвардини более тщательно скрываемым. С другой стороны, именно на фоне этого сходства выявляется глубокая пропасть, разделяющая эти книги. Связана она не только с тем, что в книге о конце Нового времени мы имеем дело с ортодоксально-религиозным (и «стабилизационным»), а в «Диалектике просвещения»— с нонконформистски-атеистическим (и «кризисным», «революционаристским») сознанием. Дело в том, что, как это ни парадоксально, но фактически Хоркхаймер и Адорно не представляют себе иного способа внутреннего конституирования индивида, кроме «личностного», откристаллизовавшегося в Новое время и глубже всего выразившегося в протестантской этике индивидуального труда и личной ответственности.
Авторы «Диалектики просвещения» универсализировали способ индивидуально-личностного структурирования, распространив его на всю историю развития человека, понимаемого в качестве самосознающего и самотождественного индивида. Поэтому они рассматривают кризис индивидуальности в период «позднего капитализма» как ее «тотальное» саморазрушение, ничего не оставляющее ни от прежней формы, ни от прежнего содержания индивидуально-личного начала вообще. Отсюда настроение безысходного пессимизма и абсолютного отчаяния, овладевающее Хоркхаймером и Адорно по поводу гибели «буржуазного индивида», которому они не могут противопоставить никакой новой формы индивидуального конституирования человека. Они невольно стремятся до бесконечности продлить «миг» падения индивида, его балансирование на грани бытия и небытия, несмотря на всю кошмарность этого «мига».
У Гвардини ситуация, в которой оказывается буржуазная личность в XX в., и перспектива выхода из нее освещаются совсем иным, отнюдь не безысходно-пессимистическим образом. Смысл «кризиса личности» состоит в высвобождении ее «ядра» — «лица». Перспективу выхода из этого кризиса католический мыслитель видит в углубленной духовной самоконцентрации человека, которая в случае успешного осуществления может рассматриваться как поднятие индивидуальности на более высокий, чем «ренессансный», уровень.
Для понимания оценки Гвардини «конца» Нового времени и сопровождающих его социальных и антропологических метаморфоз существенно важно иметь в виду историческую перспективу. Человеческий тип, сформированный Новым временем, не представляется Гвардини ни единственно возможным, ни «оптимальным», ни даже обладающим какими бы то ни было решающими преимуществами перед человеком иных времен, особенно перед средневековым человеком. Наоборот, в качестве наследника и преемника той критики, которой средневековый католицизм подверг формирующегося буржуазного индивида — поклонника чистогана, стяжателя и накопителя, Гвардини акцентирует внимание скорее на утратах, чем на приобретениях, сопровождающих исторический процесс «самореализации» ренессансной личности в условиях капитализма. В этом отличие оценок ситуации индивида в «конце» Нового времени католическим философом и теми, кто сознательно или бессознательно продолжал ориентироваться на ренессансную «модель» человека как наиболее истинную.
Для представителей этой ориентации рассуждения Гвардини о «лице», призванном прийти на смену «личности», не представлялись ни убедительными, ни обнадеживающими. Достаточно яркое свидетельство тому — книга другого католического мыслителя, Г. Марселя, «Деградация человека»23, вышедшая год спустя после «Конца Нового времени».
В центре внимания этого автора, сочетавшего католические симпатии с «непреодоленными» элементами возрожденчества, находится как раз тот пункт, который настолько слабо обоснован в концепции Гвардини, что может считаться ее ахиллесовой пятой. Марселя интересует вопрос, насколько свободен человек XX столетия и действительно ли он по-прежнему «незаместим» в акте принятия нравственного решения, скажем (если взять случай, предельный с точки зрения Марселя) в решении вопроса о том, стоит ему кончать жизнь самоубийством или нет. Он полагает, что в наше время в распоряжении «технократов» находятся такие средства воздействия на индивида, которые дают возможность лишить его возможности принять свободное решение даже в этом случае. Он не свободен и там, где, согласно стоикам, коренилась его последняя свобода: свобода «перестать быть», когда условия человеческого бытия перестают отвечать человеческому достоинству; свобода избежать необходимости Подчиняться чужой воле, сколь бы мощной и всесокрушающей она ни была. В «оруэлловском мире», навстречу Которому, согласно философу, «технократы» ведут Запад, стоическая позиция исключается, ее фундамент рушится Вместе с этой последней свободой: «убежать в небытие» Невозможно — не пустят.
Автор книги о деградации человека убежден (в противоположность Гвардини и в полном согласии с авторами «Диалектики просвещения»), что средства психологического давления на личность, созданные с помощью современной науки и техники, делают вполне возможной подмену «личностного» акта нравственного решения столь же «безличным», сколь и безнравственным «решением», навязывая индивиду «выбор», потребный власть предержащим.
Но коли так обстоит дело в «предельном» случае, то что говорить о привычных, банальных, обыденных ситуациях, когда человек вообще не задумывается о границах, пролегающих между действительно свободным (и в этом смысле «аутентичным») поступком и действием, продиктованным «извне» — обстоятельствами, приказом, принятой без размышлений догмой и т. д. И если все это верно в отношении стоически настроенных одиночек, тщетно пытающихся устоять на позиции, которая прежде казалась (и была) совершенно несокрушимой, то что говорить о «массах», которые, по Марселю, как раз и созданы с помощью «техники лишения человека его достоинства», техники «замещения» его в акте свободного решения, «выведения» его за пределы самого себя.
В отличие от Гвардини автор книги о деградации человека убежден, что «человек массы» полностью утратил не только личность и ее отдаленное подобие. Собственно говоря, выражение «человек массы» и означает, по Марселю: «человек, лишенный личного начала». Эта точка зрения, как видим, практически выводит французского мыслителя за пределы не только католицизма, но и христианского вероучения вообще. (И простая замена названия «христианский экзистенциализм» на «христианский сократизм», которую Марсель произвел после папского осуждения экзистенциализма в 1950 г., не меняет сути дела.)
Действительно, с таким пониманием «массового человека» французский философ оказывается гораздо ближе к языческому представлению, господствовавшему в эллинском мире, согласно которому существуют «свободнорожденные граждане», с одной стороны, и люди, лишенные права на свободу, — рабы и «варвары» — с другой. Обладателями «лица» со всеми вытекающими отсюда последствиями не только правового, но и нравственного порядка оказывались только «свободнорожденные», остальные не имели его. Здесь обнаруживалась граница марселевской концепции деградации человека в XX столетии: мыслитель, выдвинувший ее, не мог оставаться в рамках христианского миросозерцания, как бы он этого ни хотел; и чем дальше развивал он свое представление о «массовом человеке», тем больше обнаруживалась его несовместимость с христианским учением о человеческой природе. Книга о деградации человека обнаруживает полную разнонаправленность двух основных ее постулатов: 1) «только... личность поддается воспитанию» 24 и 2) «человек массы», т. е. «обыденный» индивид «массового общества», не есть и не может быть личностью, ибо основное его отличие — отсутствие личностного начала. Иначе говоря, с «массой» и ее типическим продуктом — «массовым человеком» уже ничего не поделаешь; воспитывать следует лишь тех, кому — в виде совершенно непонятного исключения — удалось сохранить личность. На того, кто более всего нуждается в воспитании, махнули рукой; тот же, кому повезло, кому в силу счастливого стечения обстоятельств удалось остаться личностью, пусть воспитывается и развивается дальше с помощью других «удачников».
Это противоречие пронизывает едва ли не всю теоретическую конструкцию Марселя. Тезис, определяющий марселевское отношение к «марсе», имеет форму категорического утверждения: «человек лежит в агонии»25. В нём выражено умонастроение, глубоко родственное духу «Диалектики просвещения». Это уже даже не ницшеанский «героический пессимизм», а полное отчаяние. То, что Марсель предлагает современному человеку как положительную альтернативу, кажется подчас самому автору «последним туалетом, который осужденный совершает перед казнью»26.
Подобно многим другим представителям христианской критики «массового общества» (и здесь ему вряд ли стал бы возражать Гвардини), Марсель считает, что единственной гарантией человеческой свободы является связь индивида с трансцендентным, т. е. тем, что находится за границами «мира вещей», от которого не в силах отрешиться «массовый человек», видящий в нем все начала и концы своего бытия. «В горизонте» этой связи, говоря словами Хайдеггера, и конституируется внутренний мир индивида и сам он как личность. Но — и здесь решающее отличие автора книги о деградации человека (как и всех эсхатологически настроенных критиков капитализма — и христианских и антихристианских) от Гвардини — Марсель понимает эту связь слишком узко, выталкивая за пределы «отношения к трансцендентному» «многих, слишком многих», отказываяим в личностном начале.
Условием становления личности, по Марселю, является творчество, и только творчество (истолкованное к тому же как «создание нового»). Занимаясь такими «повседневными» делами, как рождение ребенка, его воспитание (исполненное совсем не творческих, а «бытовых» забот), человек не может почувствовать себя личностью. Здесь наиболее резко обнаруживается сектантский и элитарный характер критерия, на основе которого Марсель пытается решить, кто является личностью в наш век, а кто — нет. Поэтому и получают от него «право» считать себя личностями только представители «творческой интеллигенции». На фундаменте этого «права» французский философ развивает свою идею «новой аристократии», с которой он связывает перспективу избавления элиты от уравниловки «массового общества»27.
Несмотря на сознательно акцентируемые Марселем средневековые ассоциации, вызываемые идеей «новой аристократии», сама она отнюдь не христиански-средневекового происхождения. Четкое разделение на «низших» и «высших», подчеркивание противоположности между «аристократией» и «всеми остальными» восходят к специфически языческим элементам платонизма, заостренным резко выраженным, полемически заявленным (в чем не нуждалось средневековье) ренессансным аристократизмом, в котором пошатнувшийся было аристократизм крови и традиции получил новый импульс к дальнейшему развитию, слившись с пробивавшим себе дорогу аристократизмом «духа», «творчества» и «новаторства». Независимо от того, хотел этого Марсель или нет, он предложил чисто «возрожденческое» решение вопроса о личности в «век масс»: воспитывать следует лишь воспитанного (т. е. уже сознающего себя как личность), «развивать» — лишь развитого. В основе альтернативы «омассовлению», «обезличиванию» человека лежало молчаливое убеждение в непреодолимости разрыва между «личностью» и «человеком массы».
Между тем эта альтернатива могла вообще утратить свое значение, поскольку не было никаких гарантий того, что «массовый человек» не будет воспроизводиться во все более возрастающих масштабах и не обгонит по численности тех, кого можно считать «личностями» в марселевском понимании. При таком «соотношении сил» Марселю оставалось только отделить тех, кого он считал обладателями «личности», от «всех остальных», захваченных, по его мнению, нивелирующим процессом «омассовления» и «обезличивания». Для этого нужно было возвести некий барьер между ними, который позволил бы «иерархизировать» общество, отделив «низшие ступени иерархии» от «высших».
Как видим, несмотря на то что Марсель хотел бы в качестве лояльного католика представить свою критику «массового общества» как продолжение и развитие христианской (в частности, христиански-средневековой) традиции критики «буржуазного духа», образ «творческой личности» оказывался, по сути дела, новым вариантом ренессансного толкования католической концепции человека. В этой — скорее экзистенциальной, нежели теоретической— привязанности к ренессансной «модели» человека заключается столь глубокое родство между Марселем и Бердяевым, что их обоих можно отнести к одному и тому же ответвлению христианской критики капиталистической цивилизации. Для краткости назовем его «воз-« рожденческим».
В замкнутости горизонта марселевских и бердяевскнх представлений о человеческой личности рамками ее «ренессансной модели» — глубочайший корень эсхатологизма, одинаково характерного для Бердяева и Марселя28 и сознательно утверждаемого ими в качестве непременной черты христианского мировоззрения29. И у того, и у другого в основе эсхатологического даже не мировоззрения, а мироощущения лежало неосознанное отождествление «ренессансной личности», действительно потерпевшей поражение в «век масс», с личностью (или, как выразился бы Гвардини, «лицом») вообще. Отсюда их убеждение в том, что личность, как таковая, «кончилась», а, стало быть, наступило нечто напоминающее не просто «конец» Нового времени, а конец времен.
Ориентация на ренессансный образец бросается в глаза, когда Марсель начинает расшифровывать понятия «аристократия» и «аристократическая мораль». Оказывается, наибольшее впечатление произвели на него именно эстетические характеристики аристократии — честь, гордость и т. д., к тому же стилизованные в «ренессансную эпоху» (в особенности во времена Ницше).
Восхищаясь «гордостью» испанцев, которая кажется ему признаком истинного аристократизма, культивированного средневековым католичеством30, Марсель вовсе забывает о том, что отношение христианства к «гордости» вообще было по крайней мере «амбивалентным». Благочестивый христианин безусловно предпочел бы «гордости» смирение (добродетель, которая вообще отсутствует в марселевском перечне аристократических качеств). Он обратил бы внимание на то, что «гордость» находится в опасной близости к «гордыне», которую христианство всегда считало одним из величайших грехов. И если бы Марсель действительно стоял в данном случае на позициях упомянутого христианина, он никогда бы не начал своего рассуждения об «аристократической морали» (понятие само по себе противоречивое с христианской точки зрения, так как означает, что в основу морали положен не религиозный принцип, а какой-то иной, скажем «сословный») ни с «чести», ни с «гордости». Начать с этих добродетелей можно, лишь стоя на позициях либо античного (языческого), либо «ренессансного» (возродившего античность и в этом пункте) представления об этических свойствах личности.
Аскетизм христиански-средневекового понимания этики, связанный с выдвижением на первый план «самоограничительных» моральных требований, вообще чужд Марселю. В этом смысле он находится целиком под влиянием литературных реминисценций, связанных с эстетизацией психологии испанского идальго, что и побудило Марселя усматривать абсолютную утрату человеческого достоинства там, где человек, воспитанный в духе аскетического самоограничения и «смирения», склонен видеть лишь предельное испытание этого достоинства, навязанное внешними силами. Так, Марсель, совершенно убежденный в «истинности» католичества, не принял всерьез известное рассуждение Августина о том, что монахиня, изнасилованная пьяными солдатами и переживающая случившееся с нею как свой абсолютный грех, остается в глазах поистине верующих не только совершенно невиновной в грехе «прелюбодейства», но и не утратившей своего человеческого достоинства («личности», в марселевской терминологии).
Представители христианской критики буржуазной цивилизации, в особенности ее «позднекапиталистической» формы, оказываются подчас во власти образа «ренессансного человека», т. е. такой «модели» личности, для которой характерно индивидуалистическое, а, стало быть, в конечном счете буржуазное представление о человеческой свободе и «самореализации» индивида. Это, как мы убедились, приводит упомянутых критиков к самым разнообразным антиномиям и парадоксам в области культуры и философии. В этом отношении особенно показателен персонализм, ведущие теоретики которого, начиная с его основоположника Э. Мунье, тщетно пытаются выстроить непротиворечивую концепцию «христианского гуманизма».
В персоналистском варианте «христианского гуманизма» становится осознанным неосознанное тяготение христианских философов типа Марселя и Бердяева к ренессансной «модели» личности. В связи с этим выносится на свет «дневного сознания» противоречие между возрожденческим гуманизмом и христианством и предпринимаются серьезные усилия для того, чтобы преодолеть его, обосновав принципиальную возможность (и необходимость) соединения христианства и гуманизма как единственно конструктивной альтернативы современному кризису личности и апеллирующей к ней культуры.
Ж.-М. Доменак — преемник Мунье на посту главного редактора персоналистского журнала «Эспри» — пытается осуществить эту задачу следующим образом. Во-первых, он стремится истолковать понятие «гуманизм» таким образом, чтобы приглушить его антихристианские элементы, которыми характеризовался и эллинистический и ренессансный гуманизм, а также гуманизм Прудона, Сартра, Камю и др. (и уж тем более гуманизм Маркса и Энгельса). Во-вторых, он хочет доказать, что если раньше гуманизм был направлен против христианства (ибо гуманисты прошлого не осознавали, что их атака на христианство ведется «во имя христианских ценностей»), то теперь он вступает в связь с христианством, поскольку этот союз становится необходимым перед лицом их общего врага — антигуманизма. Доменак склонен даже говорить о существовании «единого фронта» христиан и марксистов в интересах защиты традиционных ценностей культуры, труда, нации, семьи31.
В этой связи не будет лишним сослаться на известное «Письмо о гуманизме» М. Хайдеггера32, в котором изложена существенно иная точка зрения. Хайдеггер не без основания относит появление собственно гуманизма (в качестве цели осознанного устремления) к эпохе римской республики, где с помощью этого понятия «человечный человек» противопоставлялся «варварскому». Этим «человечным человеком» был, как пишет Хайдеггер, римлянин, облагороженный при помощи того воспитания и образования, которое давали ему греки (времен позднего эллинизма), преподававшие в римских философских школах. Таким образом, согласно хайдеггеровскому изысканию, гуманизм оказался специфически римским явлением, возникшим в результате «встречи римского духа с образованием позднего эллинизма»33.
Этот гуманизм и был возрожден в итальянском Ренессансе XIV и XV вв. (а потом продолжен и развит в Новое время, поэтому оно и было названо «ренессансной эпохой»). Эллинизм в самой поздней форме, получившей штамп «римского духа», «присутствовал» в ренессансном гуманизме. Гуманизм Ренессанса, как и эллинистически-римский, противопоставлял «человечность» «варварству», но в качестве последнего, не без ехидства заметил Хайдеггер, выступало уже не варварство «некультивированных народов», а «мнимое варварство готической схоластики средневековья»34.
И здесь не произошло «смыкания» христианства с гуманизмом, которое Доменак (и его предшественники из числа «христианских гуманистов») стремился отыскать в прошлом, хотя бы в виде тенденции. Принятие наполовину «гуманизированными» папами возрожденческого гуманизма не имело сколько-нибудь прочной и глубокой основы как в христиански-средневековой традиции, так и в раннем христианстве. В обоих случаях гуманизм отличается от христианства ощущением своей «исключительности», из которого вырос и возрожденческий аристократизм, и элитарность более поздних времен. Разделение на «свободнорожденных» и «варваров», приобретающее все новые и новые образы и обличья, постоянно преследует ренессансный гуманизм как метафизическая вина его «предков». Эта метафизическая вина и определяет историческую судьбу возрожденческого гуманизма (с неизбежностью предстающего в качестве буржуазного гуманизма), жестко очерчивая его границы, безжалостно отмеряя ему его век. С этим никак не хотят считаться «христианские гуманисты», не говоря уж о том, чтобы сделать отсюда все необходимые выводы.
Рассмотренные попытки «христианских гуманистов» терпят крах, наталкиваясь на одно и то же обстоятельство, которое не хотят принимать во внимание Доменак и его «единомышленники». Современный «антигуманизм», в котором они видят основного носителя кризисных тенденций культуры капиталистического Запада, своими глубочайшими корнями уходит в традицию возрожденческого гуманизма и буржуазного гуманизма вообще. Более того, все, что у теоретиков «христианского гуманизма», например у Доменака, фигурирует в качестве антигуманизма, вливается в общее русло умонастроения, в рамках которого ныне в форме его отрицания утверждаются традиции буржуазного гуманизма.
22Horkheimer MAdorno Th. W. Dialektik der Aufklärung. Amsterdam, 1947.
23Цит. по немецкому изданию: Marcel G. Die Erniedrigung des Menchen. Frankfurt а. M., 1964.
24Там же, с. 16.
25Там же, с. 19.
26Marcel G. Les Hommes contre THumain. Paris, 1951, p. 172.
27«.. .Безусловно необходимо, — пишет Марсель, — чтобы вновь образовалась аристократия, ибо следует иметь в виду ужасный факт, что уравниловка может существовать только на самых низших ступенях иерархии, ибо нет и не может быть никакой уравниловки, направленной вверх» (Marcel G. Die Erniedrigung des Menschen, S. 211).
28И бердяевскому и марселевскому эсхатологизму не было чуждо стремление искать надежду «по ту сторону» отчаяния. Эта установка очень близка пресловутому «чем хуже — тем лучше»: чем более радикальное поражение потерпело человечество, тем ближе «конец времен» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, пожалуй, с еще большей отчетливостью эта точка зрения выразилась в размышлениях о кризисе западной цивилизации П. Тиллиха, в частности в его книге «Потрясение основ» (Tillich P. The Shoking of the Foundations. L., 1963).
29См. Бердяев H. А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация. Париж, 1947; Marcel G. Die Erniedrigung des Menchen. S. 169—180.
30Marcel G. Die Erniedrigung des Menchen, S. 198.
31Domenach /. M. The Attack on Humanism in Contemporary Culture. — «Concilium», p. 22.
32Heidegger M. Über den «Humanismus». — Heidegger M. Platons Lehre von der Wahrheit. Bern. 1954.
33Там же, с. 62.
34Там же.
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 8876
Другие книги
Редакция рекомендует
- Отмена лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" в декабре 1941 г.
- Россия и Болгария: между "войнами памяти" и поиском совместного прошлого
- Как преподают военную историю за рубежом?
- Рождественские постеры австралийской, британской, германской компартий
- Образ врага в советских исторических фильмах 1930-1940-х годов
- "Убей немца" в советской пропаганде