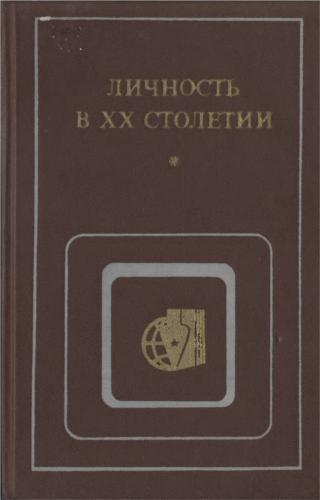Проблему личности, проблему культуры, равно как и их взаимоотношения, нельзя отнести к «вечным вопросам» человечества, хотя они определенно являются «проклятыми», во всяком случае для буржуазного общества. Дабы возникла проблема личности, нужно, чтобы сама личность уже имелась, существовала или хотя бы находилась в процессе активного самоутверждения, выделения в качестве относительно-самостоятельной общественной «реалии». Впрочем, и одного простого факта существования личности также недостаточно для возникновения проблемы личности и всего веера связанных с нею социокультурных проблем.
Теоретическая (философская и религиозная, правовая и моральная и пр.) проблема личности возникает лишь в тот момент, когда личность «проблематизируется», т. е. ставится под сомнение в самой действительности, в самой общественно-исторической реальности. Одновременно с теоретической проблемой личности возникают и такие ответвления от нее, как проблемы личность и общество, личность и культура, личность и личность и др. Чем труднее было стать, быть или оставаться личностью в тех или иных конкретных общественных условиях, тем глубже заострялись теоретические антиномии этой проблемы и тем более сомнительной казалась перспектива ее конструктивного решения. Эту ситуацию зафиксировал М. Вебер в эпоху перехода от так называемого либерального капитализма к государственно-монополистическому и «корпоративному».
Возникновение этой проблемы1 можно датировать гораздо более отдаленными временами: ей по меньшей мере столько же лет, сколько лет разговорам о кризисе буржуазной цивилизации, которая, как известно, складывалась под знаменем «личной свободы». Утверждения о кризисе буржуазной цивилизации появились очень давно как аккомпанемент первым самостоятельным шагам капитализма на самых ранних этапах его эволюции на своей собственной основе. На протяжении XVII—XVIII вв. идея нравственной несостоятельности буржуазного способа существования — а вместе с тем и буржуазного типа личности — развивалась в лоне традиции утопического социализма, восходящего к платоновскому «Государству» и «Законам», с одной стороны, и христианской (главным образом католической2) критике «торгашеского духа», безмерного стяжательства и накопительства — с другой.
В конце XVIII в. возникает и в течение первой трети
XIX в. выкристаллизовывается романтизм — набирающее силу течение западноевропейской культуры, исполненное пафоса отрицания капиталистической цивилизации, как таковой. Многим обязанное христианству (и временами снова и снова смыкающееся с католической критикой буржуазного образа жизни), это идейное направление, однако, в конце концов выходит за пределы религиозного миросозерцания вообще. Произошло это как раз потому, что обнаружившиеся антиномии буржуазного индивида романтизм пытался решить путем гипертрофии (опять-таки буржуазного) принципа личности. В этом направлении толкал романтиков их далеко идущий эстетизм, превратившийся в конце концов в простую оболочку — кокон, в котором вызрела «язычески» ориентированная «философия жизни» со свойственным ей отрицанием индивидуально-личностного принципа.
В 40-х годах прошлого века — в экстатическом предчувствии и исполненном невероятных фантазий предвосхищении национально-буржуазных революционных движений 1848—1849 гг. — разрозненные голоса критиков капиталистической цивилизации (и «утилитаризма»), буржуазного образа жизни (и «мещанства»), буржуазного способа мышления (и «рассудочности») и т. п. сливаются в общий хор, в котором трудно, почти невозможно различить партии отдельных исполнителей3. Социалистически-утопическая критика смешивается с эстетически-романтической, романтическая — с религиозной, религиозная — с социалистической; нравственное неприятие капитализма сочетается с художественным, художественное — с политическим, политическое — с научнотеоретическим и т. д. Нужна была из ряда вон выходящая «аналитически-расчленяющая мощь» (по выражению Гегеля) и колоссальная воля к размежеванию, чтобы прочертить закономерные упорядочивающие линии в этом вавилонском столпотворении «социалистических критик» буржуазной цивилизации. Впрочем, несмотря на то что на исходе первой половины XIX в. — как это и засвидетельствовал «Манифест Коммунистической партии»— доминирующей оказалась именно социалистически окрашенная критика капиталистической цивилизации (апеллирующая к так или иначе истолкованному социалистическому идеалу), несоциалистические вариации этой критики не исчезли вовсе — они только были отодвинуты тогда на задний план.
В 50—60-х годах XIX в. широкая волна критики буржуазной цивилизации, поднявшаяся в европейской культуре, немного схлынула под давлением либерально-позитивистских умонастроений, отражавших надежды широких слоев населения, волей-неволей приобщенных к кациталистическому образу жизни в экономически развитых странах, на бесконфликтную прогрессивную эволюцию капитализма. На месте антибуржуазной критики остались, с одной стороны, разнообразные и многоликие течения «мелкобуржуазного социализма» (прудонизм, бланкизм, бакунизм и т. д.), а с другой — активно противостоявший им и наращивавший силу пролетарский социализм К. Маркса и Ф. Энгельса. Что касается христианской и рохмантической разновидностей критики буржуазной цивилизации, то первая на долгое время оказалась в состоянии паралича (на протяжении второй половины прошлого века либерально-капиталистический прогресс производил на нее явно завораживающее впечатление)4. Вторая же, романтическая разновидность антибуржуазной критики как раз в эти десятилетия обнаружила далеко идущее стремление превратиться в критику всякой цивилизации, всякой культуры с позиций гипертрофированного принципа индивидуальности, которая должна была привести в конце концов к превращению романтизма в «философию жизни».
Эта тенденция отчетливо прослеживается, например, в эволюции романтика и фейербахианца Р. Вагнера от «истинного социализма» к пессимизму шопенгауэровского толка и идее «гибели богов», толкуемой как гибель «принципа индивидуации» вообще. Свое логическое завершение данное идейно-эстетическое устремление находит уже у Ф. Ницше в развенчании и разоблачении им всякой культуры во имя биологически, а подчас примитивно-физиологически толкуемой «жизни».
Развитие западноевропейской культуры в 70—90-х годах в одном отношении отмечено углублением и постепенным распространением среди «многих, слишком многих» (Ницше) разоблачительской критики всякой культуры и цивилизации (в том числе и буржуазной) с позиций «философии жизни», в другом — характеризуется нарастанием новой волны социалистической критики капитализма, связанной с развитием рабочего движения и ростом популярности социал-демократических партий на Западе. Вырвавшись на волю после нескольких десятилетнй подспудного звучания, мотив безысходного кризиса капиталистической цивилизации, а вместе с ним и кризиса буржуазного индивида звучит нарастая на протяжении 50 лет, превращаясь в ведущую тему западноевропейской культуры. Кульминационные точки в развитии этой темы были достигнуты на рубеже 10—20-х годов (Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г.) и 20—30-х годов (мировой экономический кризис 1929—1933 гг.)5. В 30-х —первой половине 40-х годов тема общего кризиса буржуазной цивилизации, буржуазного индивида, личностного принципа вообще была несколько потеснена более злободневной темой объединения всех антифашистских и антигитлеровских сил, а в 50-х — мотивами «холодной войны» и «экономического чуда». С конца 50-х годов она вновь начинает нарастать в культуре Запада и, достигнув самой высокой ноты в конце 60-х годов, продолжает громко звучать и в настоящее время.
Вряд ли есть необходимость подробно иллюстрировать ту мысль, что начиная с середины прошлого века в хоре голосов, варьирующих на Западе тему кризиса буржуазной цивилизации и буржуазного индивидуализма, резко противостоят друг другу две линии. Одна представлена научным коммунизмом Маркса и Энгельса, идеологией коммунистических и рабочих партий; другая — различными версиями самокритики капиталистической цивилизации (и культуры Запада вообще), осуществленной как бы «изнутри» этой цивилизации. О первой линии, т. е. о том, что означает кризис буржуазной цивилизации с точки зрения теории научного коммунизма, в СССР существует огромная, почти необозримая литература. Но, как ни парадоксально, крайне мало написано о том, как, в каких формах, каким специфическим образом отражается упомянутый кризис в немарксистской литературе, иначе говоря — что конкретно представляет собой «другая линия», в чем ее философско-теоретическое содержание.
М. Вебер, впервые зафиксировавший «ситуацию человека» в условиях государственно-монополистического капитализма, дал толчок последующему движению западной мысли, озабоченной, в частности, и проблемой человека в XX в. Как было показано в главе II, у Вебера эта проблема приобрела крайне драматическую форму, действительно соответствующую тому отчаянному положению, в каком оказался человек в обществе, организованном на бюрократизированных началах государственно-монополистического капитализма. Не случайно она получила почти эсхатологическую формулировку, явно возникшую у Вебера под впечатлением ницшианской критики буржуазной цивилизации и буржуазного индивида: имеет ли европейский человек перспективу своего дальнейшего развития именно в качестве индивидуально определенной личности?
Вопрос этот обсуждался на Западе со времен позднего Ницше, выступившего с призывом «превозмочь» человека, дабы унавозить почву для произрастания «сверхчеловека»6. Однако первая мировая война придала ему особую остроту. С тех пор в капиталистических странах тема «преодоления» человека не сходит со страниц философских книг и литературно-художественных журналов, перескакивая время от времени на широкие газетные полосы, на театральные подмостки и киноэкраны.
В этой теме симптоматично все: и то, когда, в какую эпоху она возникла, и то, кем была выдвинута, и то, где получила распространение и сохранила свою актуальность. В самом деле, если у человека возникает мысль, не утратил ли он человеческие свойства и не следует ли ему активно включиться в процесс их окончательного «преодоления», и если она принимает в его сознании характер навязчивой идеи, то, значит, с ним творится чтото неладное. Ну а если о «преодоленности» человеческих свойств начинают толковать многие, даже теоретики, и если разговоры об этом упорно ведутся на протяжении почти целого столетия, то, стало быть, что-то неладное творится уже не с отдельным индивидом, а с обществом и его культурой. Очевидно, речь идет о радикальном (ибо затронут его корень — человек) кризисе общества, симптомом и в то же время ферментом которого является болезнь общественного сознания.
Вот почему представляется вовсе не случайным, а наоборот, исполненным глубокой символики и мрачных предзнаменований тот факт, что первым поставившим на Западе вопрос о необходимости «превозмочь» современный культурно-антропологический тип человека стал мыслитель, уже начавший погружаться в ночь «помрачнения разума». Это был Ницше.
По этой же причине предстает как фатальная необходимость, как судьба западной культуры в эпоху превращения «свободного» капитализма в государственно-монополистический то обстоятельство, что идея автора «Заратустры» неуклонно овладевала умами выдающихся «мастеров» этой культуры, до тех пор пока (уже в середине XX в.) не приобрела характер навязчивой идеи для целого поколения мыслителей и художников.
Разумеется, далеко не для всех размышлявших о «конце» западного человека итог раздумий принимал категорический характер ницшеанского требования: «Человек есть нечто, что должно превозмочь»7. Не каждый из них решался вслед за Ницше призывать человека «покончить» с собой, принеся себя «в жертву земле, чтобы она стала некогда землей сверхчеловека»8. Не всякий мог отважиться, подобно экстатически «вышедшему из себя» философу, увещевать индивида «погибнуть и стать жертвою», доказывая, что он не только «хочет... своей гибели», но что эта «воля к гибели» есть его «высшая добродетель»9. Далеко не все мыслители эпохи государственно-монополистического капитализма, пришедшие к убеждению относительно «конца человека», были способны впадать в экстаз и переживать состояние эйфории перед подобной перспективой. У одних она вызывала чувство безысходной тоски, у других — разочарование, покорность судьбе, у третьих — глухое неприятие. Однако суть дела заключалась в том, что при всем разнообразии оценок этой перспективы общее число западноевропейских философов и художников, признававших ее неизбежность, продолжало возрастать. Процесс этот в конечном счете соответствовал углублению общего кризиса капитализма, сопровождавшего его переход в государственно-монополистическую фазу.
Если, предвосхищая последующее изложение, мы попытаемся охарактеризовать в целом эволюцию концепции человека — как она разворачивалась на Западе в первой половине XX в., начиная с М. Вебера и О. Шпенглера, — то получим следующую (самую общую и схематическую) картину.
1. Эта эволюция протекала в рамках той парадигмы, которая была предначертана ницшеанской идеей двух начал человеческой культуры — «дионисийского» (безличного и антииндивидуального) и «аполлонийского» (обостренно-личностного, гипериндивидуалистического)— и которую сам Ницше реализовал в ходе своего философского развития, склоняясь попеременно то к первому из выдвинутых им начал («Рождение трагедии из духа музыки»), то ко второму («Воля к власти» и другие поздние его работы). Колебание между «дионисийским» и «аполлонийским» началами, каждое из которых, взятое в их односторонности, абсолютизировало лишь «часть истины», как выразился бы Герцен, а потому оборачивалось ложью, характеризовало буржуазные представления о человеке на всем протяжении первой половины нашего века. Оно же характеризовало западное искусство и литературу.
2. Крайняя неустойчивость и противоречивость, которую буржуазная философская, социально-политическая и эстетико-художественная мысль обнаружила в важнейшем для человечества вопросе «Что такое человек?», ее судорожно-резкие «шараханья» от «дионисийского» принципа к «аполлонийскому», от одной односторонности и крайности к диаметрально противоположной — все это ярко и выразительно свидетельствовало об общем кризисе сознания капиталистического Запада, о далеко зашедшем «заболевании» его культуры. Последнее не могло не сказаться и на литературно-художественных процессах, обостряя болезненные антиномии литературы и искусства Запада.
3. Хотя резкое противоборство этих двух начал (персонифицируемое веберовской концепцией человека, с одной стороны, и шпенглеровской — с другой) имело место уже в первой четверти XX в., доминирующими — в общем н целом — оставались и в последующем философские, социологические и литературно-художественные устремления, апеллирующие к одному из них — «аполлонийскому» началу. Победа примитивного и кровавого «дионисинства» в фашистской Италии и гитлеровской Германии, на время отрезвившая буржуазную интеллигенцию других стран и несколько охладившая ее «дионисийский» пыл, способствовала торжеству «аполлонийства» с присущим ему гипертрофированным индивидуализмом. Результатом этой гипертрофии индивидуальности, в атмосфере которой высшим принципом оказался принцип индивидуальной свободы человека, явился экзистенциализм. Возникший во Франции в период второй мировой войны в результате трансформации немецкой экзистенцфилософии, он приобрел в первое послевоенное десятилетие характер общеевропейской моды, вызвавшей к жизни широкое литературно-художественное устремление, так или иначе апеллировавшее к экзистенциалистской концепции человека.
4. Ренессансно-романтический аристократизм и гипериндивидуалистическое богоборчество «левых» экзистенциалистов, приведшие их к этическому релятивизму и нигилизму, вызвали в рамках культуры государственно-монополистического Запада резкую критику со стороны влиятельных католических кругов. В противоположность экзистенциалистам их католические критики выступили с антиэлитарных позиций, не желая терять связей с массами, которые подвергались разоблачительской критике со стороны экзистенциалистски настроенных противников «массового общества». Католицизм, официально предавший анафеме экзистенциалистскую концепцию человека, оказался более дальновидным, чем философские представители последней, которые (например, Сартр и его единомышленники) со временем сами отреклись от гипертрофированного индивидуализма. Однако и католическая концепция человека не смогла удержать власти над умами. Она явно не выдержала конкуренции ни в борьбе с антиклерикальными критиками самого понятия «личность», ни в соперничестве с некритическими апологетами «массового общества».
5. Экзистенциализм встретил резкое неприятие и критику не только со стороны официальных церковно-религиозных кругов, но и со стороны «лево»-радикальной (и отчасти даже «лево»-экстремистской) «неомарксистской» оппозиции государственно-монополистическому капитализму, прежде всего со стороны представителей Франкфуртской школы. Близкие к экзистенциалистам в их оппозиции «массовому обществу», сложившемуся на почве государственно-монополистического капитализма, франкфуртские «неомарксисты» — Хоркхаймер, Маркузе, Адорно и др. — отличались от них в решении проблемы личности. Они заявляли, что принцип личности и личной свободы, к которому апеллировали экзистенциалисты, является исторически несостоятельным (ибо личность, или «самость», потерпела, по их убеждению, окончательное и бесповоротное поражение), а потому теоретически ложным и политически вредным. Истинным выражением этого обстоятельства они считали самые крайние, нигилистически ориентированные устремления художественного «авангарда» — дадаизм и сюрреализм, экспрессионизм и «экспрессивный» абстракционизм. Социальная философия Франкфуртской школы была (и осталась) философией «авангарда», существующего за счет саморазоблачения, самодеструкции искусства и литературы. Смысл этого «парадоксального» существования искусства франкфуртские теоретики видят в том, что оно, дескать, «моделирует» безнадежное положение личности (или, что для них то же самое, индивидуальности) в условиях «позднего», т. е. государственно-монополистического, капитализма.
6. В ходе эволюции франкфуртского «неомарксизма» совершалась (уже не в первый раз, если вспомнить О. Шпенглера и аналогичные тенденции в искусстве и литературе 20-х годов) переориентация буржуазного сознания с «аполлонийского» ницшеанского принципа на «дионисийский». Она совпала с нарастанием — в рамках этой версии «неомарксизма» (да и в буржуазном сознании вообще) — «лево»-фрейдистских мотивов с характерной для «левого» фрейдизма переакцентировкой концепции человека на основе абсолютизированного «принципа удовольствия». Такой поворот, который привел к новому «решению» проблемы человека, получил не только философское («левый» фрейдизм), но и литературно-художественное выражение в перерастании «авангардизма» в «неоавангардизм», выступавший с позиций прямого и немедленного растворения искусства в «жизни» (под которой, как мы увидим дальше, понималась главным образом «лево»экстремистская политика или «культурная революция» в духе Мао).
7. Процесс переосмысления концепции человека на основе фрейдовского «принципа удовольствия», предвосхищенный ранними работами В. Райха и Э. Фромма (не говоря уже о работах «левых» сюрреалистов), достиг своей кульминации у Г. Маркузе, начиная с его «Эроса и цивилизации» (1955). Эта кульминация совпадала с конституированием «общества потребления» не только по времени, но и по внутреннему содержанию преобразований, произведенных «левыми» фрейдистами в буржуазном сознании. Данное обстоятельство позволяет рассматривать последних в качестве идеологов «потребительского общества», которым собственные теоретические построения представлялись радикально «антибуржуазными».
Новый подход к решению проблемы человека должен был стать знаменем всех тех социальных сил, которые рассматривали «потребительское общество» как «революционное отрицание» государственно-монополистического капитализма, как «бунт» против его «последнего оплота» — западной культуры. Эти силы и стали источником «нового левого» экстремизма с соответствующим, богемно-люмпенским типом бунтарства.
В рамках настоящей главы мы не можем одинаково подробно рассмотреть все узловые моменты охарактеризованной выше эволюции. Да это и не нужно, если учесть, что некоторые из них, например связанные с экзистенциалистской концепцией личности, уже получили достаточно детальное освещение в нашей литературе10. Поэтому мы сосредоточим внимание главным образом на послевоенном (после второй мировой войны) отрезке описанной эволюции и только на тех узловых фигурах, которые наиболее важны в контексте данной монографии.
Мы возьмем мотив «конца человека». Здесь обращает на себя внимание одно весьма любопытное обстоятельство. Мотив этот звучал все громче, становясь доминирующим по мере конституирования «общества потребления». Уже один этот факт, быть может, больше всего свидетельствовал об эфемерном характере «потребительской цивилизации», широко рекламировавшейся буржуазными идеологами в 50-х годах. В конце 50-х — начале 60-х годов идея «смерти человека» вызвала модное поветрие в интеллектуальных кругах капиталистического Запада, сопровождавшееся своеобразной конкуренцией— кто дальше уйдет в ее развитии. Как пишет лидер современного французского персонализма Ж. М. Доменак11, в художественной сфере этот процесс отмечен именами Ионеско, Беккета, Роб-Грийе и других видных представителей авангардистской литературы и искусства, которые не только взяли на себя роль свидетелей «аннигиляции» человека (и человеческого начала вообще), но и пожелали утвердить эту «аннигиляцию» в качестве отправного пункта своих творческих исканий, оказавшись, таким образом, вольными или невольными апологетами зафиксированных ими явлений.
В философии, по мнению Доменака (он имеет в виду главным образом французскую философию), сторонниками двусмысленной идеи «смерти человека», явно превращавшейся в «провокационный лозунг», выступили Леви-Стросс со своим «этнологическим дикарем», который стал у него основным элементом отрицания гуманизма; М. Фуко, элиминировавший в книге «Слова и вещи» человеческое начало точно так же, как он «устранил» в более ранней работе «История безумия» различие между разумом и сумасшествием; Л. Альтюссер, попытавшийся представить Марксово учение в качестве «теоретического антигуманизма», и неофрейдист Ж. Лакан. В политике носителями идеи «смерти человека», реализуемой в форме экстатического саморастворения индивида в «акте бунта», по Доменаку, стали гошиствующйе студенты, из рядов которых вышли, как известно, «левые» экстремисты анархистского, маоистского и неотроцкистского толка. Общим знаменателем для всех этих устремлений, с помощью которого они были разменены на ходячие монеты массового сознания, стало, согласно Доменаку, «варварство контркультуры», в которую выливается ныне на Западе «молодежная субкультура» (отсек «массовой культуры», создаваемый специально для молодежи с помощью ее «идолов»).
Сказанного вполне достаточно для того, чтобы представить важность и актуальность критического анализа комплекса проблем, связанных с положением личности и культуры на Западе. Они, как видим, совсем не академические, ибо оценка на Западе «ситуации человека» в XX в. время от времени «провоцировала» попытки обращаться с человеком соответствующим образом: вслед за разговорами о его «конце» неизбежно возникали поползновения и в самом деле «покончить» с ним. В этих случаях становилось особенно очевидным, что мысль стоит гораздо ближе к делу, чем это можно предположить. Вот почему в последующем рассмотрении нас будут интересовать не только пессимистические констатации «судьбы индивидуальности», каковых так много нынче на Западе, но и с каких позиций, в рамках какой «концепции человека» они осуществлены.
1Мы имеем в виду не рассуждения о человеке вообще, а ту более конкретную форму, в какой проблема личности была унаследо-
вана эпохой крушения капитализма и возникновения принципиально иных исторических альтернатив ее решения.
2Элементы «предвосхищающей» критики капиталистической цивилизации, складывающиеся постепенно в разветвленную концепцию, можно фиксировать, в частности, в католическом споре с протестантизмом, обнаруживавшим — чем дальше, тем отчетливее — свое внутреннее родство «духу капитализма». Последнее обстоятельство, вскрытое М. Вебером, и сделало столь впечатляющей его попытку вывести «дух капитализма» из протестантской «хозяйственной этики» (Weber М. Die protestantische Ethik. München — Hamburg, 1965; Lewis J. Max Weber and Value-Free Soziology. A Marxist Critique. L.f 1975).
3Как раз в этот период в России сложилась славянофильская версия критики буржуазной («западной») цивилизации, содержавшая социалистические обертоны, подхваченные и развитые впоследствии Герценом. В аспекте философско-теоретическом романтизм славянофилов представляет собой сдвинутую во времени (запоздалую) параллель немецкому с тем, однако, решающим отличием, что славянофилы подчеркивают не эстетический и не гипертрофированно-индивидуалистический, а именно этический момент романтизма, сближающий его с христианством.
4Одним из немногих исключении из этого правила можно было бы считать критику, которой подверг либерально-буржуазную цивилизацию русский православно ориентированный мыслитель К. Леонтьев (1831—1891).
5Многозначителен тот факт, что как раз между этимп двумя кульминационными пунктами наибольшую популярность приобретают такие критики капиталистической цивилизации (и чаще всего культуры вообще), как Л. Клагес (1870—1956), Т. Лессинг (1872—1933), Г. Кайзерлинг (1880—1946) и О. Шпенглер (1880—1936), которые исповедовали «философик> жизни» и пытались представить ее как новый род метафизики или даже (безрелигиозной) религии.
6Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1913, с. 29, 55, 233.
7Там же, с. 29, 55, 333.
8Там же, с. 29.
9См. там же.
10См. Гайденко П. П. Экзистенциализм и проблема культуры. М., 1963; Современный экзистенциализм. М., 1966; Великовский С. И. Грани несчастного сознания. Театр, проза, философская эссеистика Альбера Камю. М., 1973; Киссель М. А. Философская эволюция Ж. П. Сартра. Л., 1976.
11Domertach J. M. The Attack on Humanism in Contemporary Culture. — «Concilium», 1973, v. 6, N 9.
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 6361
Другие книги
- Коллектив авторов. Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма (сборник)
- Джон Армстронг. Советские партизаны. Легенда и действительность. 1941-1944
- Виктор Леонтович. История либерализма в России (1762-1914)
- Иоханнес Рогалла фон Биберштайн. Миф о заговоре. Философы, масоны, евреи, либералы и социалисты в роли заговорщиков.
- С. А. Левитин. Пропагандисты ленинской школы
Редакция рекомендует
- Отмена лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" в декабре 1941 г.
- Россия и Болгария: между "войнами памяти" и поиском совместного прошлого
- Как преподают военную историю за рубежом?
- Рождественские постеры австралийской, британской, германской компартий
- Образ врага в советских исторических фильмах 1930-1940-х годов
- "Убей немца" в советской пропаганде