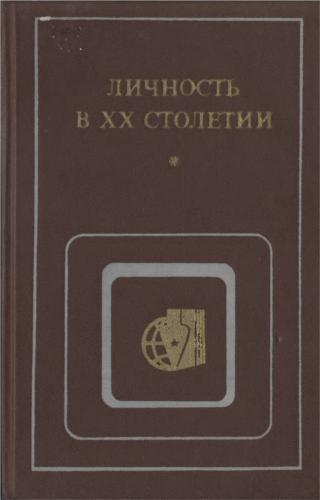Попытаемся теперь резюмировать сказанное о «враждебной культуре» под углом зрения того, какие общие изменения в понимании человека отразили «новейшие умонастроения», господствующие в ней. Первое, что обращает на себя внимание в данной связи, — это окончательная переориентация с «аполлонийского» (гипертрофированно-личностного) принципа на «дионисийское» — безличное, анонимное и в то же время экстатическое — начало. Второе обстоятельство заключается в том, что переориентация эта произошла под знаком возрастающего доминирования в западной культуре «дионисийских» тенденций философии жизни, истолкованных к тому же совершенно определенным, а именно гедонистическим, образом. Наконец, третье: если в рамках этих тенденций, представляющих собой поистине «вавилонское столпотворение» самых разноречивых и разноголосых идей, умонастроений, чувств и т. д., выделить некоторую равнодействующую, то таковой оказывается «левый» фрейдизм — истолкование фрейдовского учения в духе «левого» радикализма и воинствующего гедонизма (сего идеей «сочетания» политической революции с «сексуальной»).
Речь идет не только о том, что «левые» фрейдисты составляют подавляющее большинство в числе тех философов, социологов, культурологов и пр., на которых чаще всего ссылаются провозвестники «враждебной культуры». В сфере этой культуры имеют характер само собой разумеющихся и не требующих доказательств прежде всего и главным образом «лево»-фрейдистские идеи, понятия, представления и «ходы» мысли. Вот почему, подытоживая сказанное о том, какими путями западная философская, социологическая и культурологическая мысль пришла к «враждебной культуре» с соответствующей ей — столь же релятивистской, сколь и нигилистической — «концепцией человека», мы должны специально остановиться на вопросе о фрейдовском учении и его превращении в «левый» фрейдизм. В этой эволюции отражается самое важное и существенное не только в специфически философском, но и в социально-историческом смысле, что характеризует буржуазную «концепцию человека» после второй мировой войны, и особенно в 60-х годах.
Если попытаться осмыслить «фрейдистский бум», происшедший в культуре капиталистического Запада после второй мировой войны, то первое, что бросается в глаза, — это своеобразная корреляция между возрастанием (и в то же время определенной внутренней трансформацией) интереса к учению Фрейда, с одной стороны, и углублением — универсализацией — тенденций буржуазного общества, ведущих к тому, что западные социологи назвали «обществом потребления», — с другой.
Как в советской43, так и в зарубежной44 литературе, касающейся агрессивно-потребительского устремления, пробившего себе дорогу в современном западном обществе, уже отмечалось, что вместе с этим устремлением в буржуазном сознании выдвинулся на авансцену принцип, который прежде присутствовал в нем, но оставался в тени. Речь идет о гедонистическом «принципе удовольствия», если взять его в наиболее четкой — фрейдовской — формулировке, фиксирующей суть, ядро всякого потребительства. Расшифровывая этот принцип45, Фрейд говорит о бессознательном стремлении индивида извлечь максимум наслаждений из каждого участка своего тела, из каждого органически-телесного отправления. На обывательском языке этот принцип расшифровывается категорическим требованием: «Бери от жизни все, что можешь!»
Само собой разумеется, выдвижение «принципа удовольствия» на передний план не могло происходить бесконфликтным образом, так как это грозило определенными опасностями для другого принципа, который до тех пор безраздельно господствовал в буржуазном сознании, — «принципа производительности», или, если сформулировать его более критическим образом, принципа «самоцельности производства», «производства ради производства».
Не так уж трудно заметить, что эти два принципа в известном смысле исключают друг друга: если один ориентирует человека на то, чтобы он трудился (таков важнейший императив буржуазно-протестантской, «хозяйственной этики» — этики индивидуального труда), то второй призывает его потреблять, потреблять и потреблять (лозунг того буржуазного персонажа, которого Маркс назвал «евнухом промышленности»). Чем больше трудится человек, тем меньше времени и энергии у него остается, чтобы предаваться культу потребления. И наоборот, чем больше времени и энергии уходит у него на погоню за разнообразными «удовольствиями», тем меньше того и другого он может отдать продуктивному труду.
Эти два принципа могли более или менее мирно сосуществовать в общественном сознании капиталистического Запада лишь до тех пор, пока один из них — принцип «самоцельности производства» — в той или иной форме признавался главенствующим, тогда как другой («принцип удовольствия») рассматривался как подчиненный. Социальной основой относительно мирного сосуществования рассматриваемых принципов было их «разведение» по разным направлениям, отнесение их к различным слоям общества: «принцип удовольствия», взятый во всей его неурезанности, взывал главным образом к «высшим», господствующим классам, тогда как «принцип производительности» относится в первую очередь к «низшим», эксплуатируемым классам. Впрочем, при этом имелось в виду, что со своей стороны и капиталист-предприниматель, если он хочет, чтобы его предприятие процветало, должен трудиться, откладывая удовольствие «на завтра» и вкладывая деньги, предназначенные для «завтрашних удовольствий», в сегодняшнее дело. (Вспомним поведение Артамонова-старшего из горьковского «Дела Артамоновых», жизненное кредо Томаса Будденброка из манновских «Будденброков», наконец, поэтически-социологическое обобщение В. Маяковского: «Капитализм в молодые годы был ничего, деловой парнишка: первый работал — не боялся тогда, что у него от работ засалится манишка».)
По мере того как государственно-монополистический капитализм обнаруживал тенденцию конституироваться в форме «общества потребления», ситуация радикально менялась. Наступал конец «мирного сосуществования» «принципа производительности» и «принципа удовольствия», поскольку второй, вырвавшись на авансцену буржуазного сознания, претендовал теперь на ту же абсолютную значимость, что и первый; а там, где сталкиваются два «абсолюта», мира между ними быть не может. Таким образом, во второй половине XX в. буржуазное сознание дало одну из самых глубоких трещин. Функционер капиталистического производства вступил в безвыходное противоречие с самим собою: в качестве «потребителя» он противостоял самому себе как «производителю», и, поскольку каждая из этих ипостасей предъявляла абсолютные требования к его «я», ему явно грозило раздвоение личности — синдром, чаще всего связываемый психопатологами с шизофренией. В этом плане поистине символическое значение имело то обстоятельство, что нарастание на Западе тенденций гипертрофированного потребительства сопровождалось, с одной стороны, ростом психических заболеваний, а с другой — скачкообразным возрастанием интереса к психопатологии вообще и фрейдовскому психоанализу в частности.
Приглядимся более внимательно к процессу самоутверждения «принципа удовольствия» в буржуазном сознании XX в. Посмотрим, почему именно фрейдизм оказался наиболее подходящей идеологической формой этого самоутверждения.
Говоря о том, что каждый из рассматриваемых принципов предъявляет к буржуазному сознанию «абсолютистские» требования, мы имеем в виду, в частности, и следующее обстоятельство. Поскольку каждый из этих принципов предполагает определенную совокупность требований к человеческому поведению, т. е. осознание этого поведения под определенным углом зрения, постольку он претендует на то, чтобы стать основой миросозерцания, системы представлений о человеке и его месте как в обществе, так и в природе.
«Принцип производительности» апеллировал к «модели» человека, понятого как свободная, нравственно ответственная и рационально ориентированная личность. В качестве высшего в человеке выступало его «я» («самость»)— духовное, морально-разумное и разумноморальное начало, подчиняющее себе все телесные влечения и склонности и допускающее их осуществление лишь в той мере, в какой это отвечает его основному устремлению: реализовать себя в деятельности, в труде, в конечном счете в накоплении капитала. Капитал же в свою очередь рассматривался и как источник благосостояния, и как источник уважения со стороны окружающих, коль скоро они воспринимали этот капитал как воплощение энергии, деловитости, бережливости и прочих этических качеств его обладателя.
В этой «модели», которая легла в основу буржуазной идеологии, взятой в ее классической форме, соответствующей восходящему капитализму, на первом месте стоят волевые качества характера, такие, как определенное самоограничение, отказ от немедленного удовлетворения влечений, суровая и жесткая целеустремленность и т. д., — словом, все то, что у М. Вебера фигурировало под термином «внутримирской аскезы». К этим качествам до сих пор взывает буржуазная идеология, когда имеет дело с «производителями» — трудящимися капиталистического общества. Правда, эти призывы оказываются тем менее эффективными, чем более очевидным становится несоизмеримость, вопиющий разрыв между индивидуальным трудом, личной инициативой, энергией, расчетливостью, с одной стороны, и современной организацией капиталистического производства — с другой.
Иначе говоря, «принцип производительности» (вся буржуазно-протестантская «хозяйственная этика» вообще) даже безотносительно к тому давлению, которое он испытывает со стороны противостоящего ему «принципа удовольствия», оказывается расколотым. Сегодняшний американец уже очень мало верит в то, что его индивидуальная воля и целеустремленность, его личная бережливость и расчетливость откроют ему перспективу стать капиталистом. И уже одно это не могло не способствовать известной расчистке почвы для самоутверждения «принципа удовольствия».
Принцип этот подразумевает «модель» человека, диаметрально противоположную буржуазно-протестантской, хотя и не «антикапиталистическую». Это принцип капитализма, но капитализма, выступающего в форме «общества потребления». Если взять эту «модель» в изображении тех, кто по меньшей мере настороженно относится к «принципу удовольствия» (Д. Белл), и тех, кто были его восторженными пророками (Г. Маркузе, Н. Браун, П. Гудмен, Т. Розак), то можно выделить следующие общие ее черты.
Я основе этой модели лежит апелляция не к нравственно-духовному (морально ответственное и трдаво-ра« циональное «я»), а к «эстетически»-чувственному и, более того, к «брутально»-телесному началу человека. Это начало нельзя даже назвать личным, индивидуальным: оно скорее безлично, анонимно. Это фрейдовское «оно», стремящееся к максимуму наслаждений в единицу времени. Только это телесно-чувственное, вожделеюще-«страстное» начало может быть истинной субстанцией самодовлеющего влечения к удовольствиям, поскольку все «привходящие» соображения — нравственного или практически-рационального характера — могли бы лишь воспрепятствовать наслаждению, затормозить или даже вовсе исключить его. Это начало, а именно к нему апеллирует «евнух промышленности» в первую очередь, стремясь обойти нравственное и практическое сознание человека, оказывается высшим, единственно истинным в рамках рассматриваемой «модели человека».
Если буржуазно-протестантская «модель» отдает предпочтение активно-волевым и морально-разумным качествам человеческой личности, то гедонистически-потребительская берет человека на том уровне, где он уже не является личностью. В рамках этой «модели» он столь же «безличен», сколь и безответствен: он «одержим» страстями (делающими его как бы «невменяемым»). Так, согласно средневековому воззрению, утрачивал свое «я» человек, одержимый дьяволом (что, впрочем, не освобождало его от ответственности). Таким и хотел бы видеть человека «евнух промышленности»; «модель человека», которую предполагает «принцип удовольствия», — это и есть видение индивида глазами упомянутого «евнуха». Этого долго не хотели признавать «лево»-радикальные гедонисты, что и делало их «бунт» двусмысленным.
Впрочем, «евнух промышленности» где-то на заднем плане сознания всегда таил мысль о том, что его идеал «абсолютно пластичного» потребителя никогда не может быть реализован полностью, поскольку он знал, что «массовый потребитель» — это одновременно и «массовый производитель», а в качестве такового он должен удовлетворять всем требованиям, которые предъявляет ему «принцип производительности». Иными словами, «принцип удовольствия» в той форме, в какой он допускался и культивировался «обществом потребления», также был внутренне раздвоен: раздвоен смутным сознанием (одинаково владевшим и «евнухом промышленности» и «чело« веком вожделеющим») того, что он не может быть реализован целиком и полностью — в «неурезанном», так сказать, виде, поскольку «безграничное» потребление предполагает столь же «неограниченное» производство.
Как видим, оба принципа, борющиеся за «абсолютную власть» в буржуазном сознании второй половины XX в., оказываются одинаково противоречивыми (хотя и в разных отношениях и на различных основаниях). Это обстоятельство лишь обострило борьбу между ними. Отсюда дополнительные антиномии, характеризующие современное западное сознание, равно как и концепции его теоретических представителей — философов или социологов, публицистов или представителей «интеллектуальной романтики». Однако в контексте нашего рассмотрения интересна не эта антиномичность сама по себе. Важна идеологически-мировоззренческая форма, в которой она осмысливается, важны общие тенденции, характеризующие теоретическую мысль.
Если с этой точки зрения посмотреть на два рассмотренных нами устремления современного западного сознания, то бросается в глаза одно многозначительное обстоятельство. Эти устремления вполне адекватно могут быть описаны с помощью фрейдистской теории: не случайно одно из важнейших понятий Фрейда — «принцип удовольствия» — было прямо использовано нами при описании одного из этих устремлений, тогда как второе — «принцип реальности» — оказывается очень близким по своему содержанию тому, что в нашем описании фигурирует под названием «принципа производительности», «самовозрастающего производства», «производства ради производства» и т. д. Фрейдизм содержит понятия и представления, позволяющие адекватно выразить то, что совершается в буржуазном сознании в момент, когда в нем начинается открытое противоборство двух описанных устремлений; поэтому его трудно обойти при характеристике соответствующих явлений, правда взятых на уровне описания, а не объяснения.
Здесь кроется одна из весьма существенных причин того, почему западные философы и социологи, психологи и публицисты, писатели и художники все чаще и чаще обращаются к учению Фрейда («заново» открывая его для себя) по мере углубления и институционализации на Западе тенденций «общества потребления». «Фрейдистский бум» 50—60-х годов — это не первое обращение западного сознания к учению Фрейда. Первый «бум» вызвали фрейдовские работы еще в 20-х годах, но тогда интерес к ним имел «элитарный» характер, который стал «массовым» лишь 30 лет спустя. Это симптоматичный факт именно в социологическом отношении. Он свидетельствует о том, что гедонистически-потребительские устремления, которые в 20-х годах характеризовали лишь узкие элитарные круги капиталистического Запада (о чем свидетельствует Белл, опирающийся на значительную литературу46), десятилетие спустя после второй мировой войны приобрели широкое распространение.
Популярность теории Фрейда уже в период первого «фрейдистского бума» многочисленные авторы, писавшие о фрейдизме, объясняли, во-первых, тем, что создатель психоанализа снял табу с обсуждения сексуальной проблематики. Во-вторых, Фрейд был одним из первых, кто поставил вопрос о смягчении (и даже отмене) ряда нравственных, культурных и т. д. запретов на некоторые сексуальные проявления, до него считавшиеся половыми извращениями. В-третьих, и это, быть может, самое важное в плане нашего рассмотрения, Фрейд решительно ограничил сознание, для того чтобы предоставить место «принципу удовольствия», гедонистическому устремлению вообще, хотя он тут же попытался поставить его в определенные рамки. В-четвертых, определив сферу «бессознательного» как область, где безраздельно властвует «принцип удовольствия», Фрейд открыл новую перспективу для социально-утопического мышления: отныне оно могло искать свою «обетованную землю» не в прошлом и не в будущем, а, так сказать, «здесь и теперь», в «бессознательном» каждого индивида. Обрести свою Утопию каждый мог, не покидая своей постели, размышляя о том, что ему приснилось, с помощью фрейдовского «Толкования сновидений». В-пятых, Фрейд драматизировал сферу «частной жизни» обыденного представителя «средних классов» (к которым принадлежал и сам), подняв, возвысив ее до уровня античной трагедии: «Эдипов комплекс», спроецированный Фрейдом в «подсознательную» ооласть человеческой души, давал возможность каждому переживать свою душевную жизнь как высокую трагедию.
Действительные трагедии, в которые было ввергнуто человечество с приходом к власти гитлеровцев, нацистские лагеря смерти и ужасы второй мировой войны — все это на долгие годы затмило постельно-комнатные драмы, патетизированные с помощью фрейдовских «комплексов», переносивших в мещанский быт античные мифологические ассоциации. Но в послевоенный период, по мере того как трагедия войны начала вытесняться из сознания драмами в среднебуржуазном доме или ограничиваться размерами двуспальной кровати, — а этому-то как раз и способствовала идеология «общества потребления» — фрейдизм вновь вошел в моду; то, что происходило на поле битвы, фрейдисты пытались объяснить с помощью схем «Эдиповой ситуации»: отец — мать — сын или мать — отец — дочь, намекающих на кровосмесительные «притяжения». Только теперь игра на аналогичных намеках перестала быть элитарно-аристократическим занятием немногих. С помощью средств массовой коммуникации к ней были приобщены «многие, слишком многие», что не могло не привести и к некоторым содержательным теоретическим трансформациям в лоне фрейдизма.
Разумеется, средства массовой информации, взятые сами по себе, отнюдь не повинны в возникновении моды на фрейдизм в 50—60-х годах. Причина этого в более глубоких процессах, совершавшихся как в самом западном обществе, так и в его сознании, хотя после того, как соответствующая мода возникла, люди, имеющие отношение к массовой информации, сделали все возможное, чтобы закрепить и распространить ее с помощью новейших технических средств. Почвой, на которой возникло фрейдистское умонастроение, выступившее в качестве не просто скоропроходящего модного поветрия, но в виде определенной идеологии, жизненной позиции, характерных для достаточно широкого общественного слоя, стало именно «общество потребления». Вызванная им к жизни «сексуальная революция» явилась как бы осуществлением «сексуально-революционных» утопий, возникших под влиянием фрейдизма еще в 20-х годах.
Речь идет не о той идеологизированной и мистифицированной «сексуальной революции», о которой так много шумели «новые левые» экстремисты в 60-х годах, тревожа тень «сексуалистов-утопистов» 20-х годов. Речь идет о менее шумной, но гораздо более реальной и основательной «революции», которая произошла в половой морали и «сексуальных обычаях» капиталистического Запада в 40—50-х годах (а в США это началось еще раньше) под влиянием скачкообразно растущей урбанизации. Причем произошла эта «революция», конечно же, не без содействия средств массовой коммуникации, обеспечивавших широчайшую рекламу урбанизированному образу жизни, влекущему за собой «либерализацию» сексуальных отношений людей.
Ведь, пожалуй, самое главное и основное, что принесло с собой общество «сверхгородов» (мегаполисов), удешевленных товаров, кредита и всемерно стимулируемого потребительского спроса в сферу морального сознания государственно-монополистического Запада, — это культ чувственности, осязаемо-телесного наслаждения, который, естественно, не мог не обернуться культом «сексуального удовольствия», сексуальности вообще. В нем-то как раз и достигал своей кульминации гедонистически-потребительский принцип телесно-чувственного удовольствия, ставшего объектом почти мистического поклонения. Как свидетельствует Д. Белл в книге «Культурные противоречия капитализма», в «потребительском обществе», не без основания именуемом также и «обществом вседозволенности», традиционный буржуазный мотив приобретательства нашел свою столь же неожиданную, сколь и закономерную, кульминацию в сексе.
При всей внешней парадоксальности связи между приобретательством, издавна покоившимся на экономии и «сдержанности», с одной стороны, и сексом, который в глазах традиционно настроенного приобретателя-капиталиста всегда был источником всяческого расточительства,— с другой, в ней есть своя закономерность. Как только сын приобретателя-капиталиста, разочаровавшийся в возможностях «догнать и перегнать» своего отца в деле (а главное, и не склонный к этому в силу размягченности воли и утраты веры в идеалы буржуазно-протестантской этики), вступает на путь погони за чувственными удовольствиями, он, неожиданно уподобляясь своему родителю, начинает искать наиболее «весомые» и «ценные» из них, т. е., выражаясь языком вульгарного гедонизма, те удовольствия, которые могут дать ему максимум наслаждения в минимальный отрезок времени. Таковыми, разумеется, оказываются удовольствия сексуального порядка.
Таким образом, в сфере потребительски-гедонистически ориентированной чувственности «сексуальные удовольствия» оказываются мерой всех иных чувственнотелесных удовольствий, т. е. играют ту же роль, что и деньги в хозяйственно-экономической сфере буржуазного общества. Эти «натуральные деньги» гедонистической чувственности подвержены тем же инфляционным бурям (вплоть до их полного обесценения), которым подвержены американский доллар, английский фунт стерлингов или французский франк. Так что и здесь приобретателюгедонисту приходится «играть на повышение» курса «сексуальных удовольствий», сдабривая их возрастающей долей садизма, мазохизма и прочих извращений, призванных «осерьезнить» сильно подешевевший секс, связав его с опасностью и риском.
Как видим, «культ оргазма», пришедший на смену «культу богатства»47 (но не отменивший, как это кажется подчас буржуазным социологам, а лишь несколько потеснивший и дополнивший его), в очень многих отношениях начинает смахивать на этот последний. Впрочем, это сближение в определенных отношениях не исключает углубляющегося противоречия этих двух культов и вызывает время от времени конфликты, подобные тем, которые возникли в лоне движения «новых левых», где созрела идея соединения «сексуальной революции» с политической, «взорвавшая» в конце концов и само это движение.
Нетрудно представить себе, в сколь значительной степени обстановка «культа оргазма» должна была подогревать интерес к Фрейду, поскольку возникала возможность перевода на фрейдистский язык целого пласта жизни, который прежде защищался от излишне откровенной «вербализации», а теперь, наоборот, лихорадочно выставлялся на всеобщее обозрение, ибо, согласно ходячему мнению, поддерживаемому на Западе средствами массовой коммуникации, то, что «ценно», должно быть скорейшим образом продемонстрировано «всем».
Добившись признания, «сексуальная жизнь» остро нуждалась в соответствующем языке: понятиях и представлениях, «ходах мысли» и словесных оборотах, которые позволили бы ей утвердиться в общественном сознании, «институционализироваться» в нем, представ как его обязательная принадлежность. Такой язык можно было найти только в сочинениях Фрейда, разработавшего его на базе определенного «мифа» о человеке. Иначе говоря, речь шла о языке, который вполне подходил бы для того, чтобы стать формой выражения целой идеологии — идеологии «потребительского общества», гедонизма, усматривающего последнюю истину в «оргазме». Однако для этого фрейдизм должен был претерпеть определенные преобразования, причем не столько в области языка, сколько в сфере скрывающихся под ним «мифологем».
Дело в том, что фрейдизм возник как попытка достичь компромисса между ригористской и рационалистской «хозяйственной этикой» капитализма, с одной стороны, и потребительски-гедонистической тенденцией, все громче заявлявшей о себе с начала XX столетия, — с другой. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением буржуазных социологов, интерпретирующих фрейдизм как технику освобождения людей от психологических напряжений. Речь идет о напряжениях, испытываемых людьми, находящимися во власти принципов и требований классически-буржуазной «хозяйственной этики», вследствие потребительски-гедонистических устремлений, которые, прорываясь в протестантское сознание, нарушают его целостность.
Однако «компромисс», достигнутый Фрейдом, был временным и неустойчивым, как неустойчивым было равновесие между «принципом производительности» и «принципом удовольствия», достигнутое капитализмом в первой четверти нашего столетия. Почвой для этого равновесия была относительная неразвитость второго из этих принципов, связанная с неразвитостью гедонистическипотребительских тенденций, захвативших в тот период лишь узкие, «элитарные» круги буржуазного общества. Поскольку в 50—60-х годах эти тенденции распространились на все «общество потребления», насчитывающее многие миллионы людей, охваченных потребительским «оргазмом», постольку упомянутое равновесие нарушалось48
Если психоаналитику Фрейду приходилось врачевать своих пациентов, озабоченных неожиданно появлявшейся у них склонностью к запретным удовольствиям и наслаждениям, доказывая им, что последние не так уж страшны и кошмарны, как они представляются их чересчур строгому и ригористичному «сверх-я», то психоаналитикам 50—60-х годов пришлось столкнуться с принципиально иной категорией невротиков.
Как свидетельствует Белл, в условиях «общества потребления» поводом для невротических переживаний, приводящих человека к болезненному самоанализу и побуждающих его обращаться к помощи психоаналитика, является не вопрос о влечении к запретному удовольствию, а отсутствие такого влечения, равно как и «влечения к удовольствиям» вообще (поскольку оно обязательно предполагает нынче большую или меньшую «запретность», которую все труднее найти в «обществе вседозволенности»). Человек, которого не влекут удовольствия, культивируемые «обществом потребления», который испытывает мало радости от служения «культу оргазма», считает, что его психика «не в порядке» и ему пора обратиться к психоаналитику. Иными словами, неспособность предаваться новым и новым удовольствиям (а она ведь должна возникнуть тем раньше, чем раньше началась погоня за наслаждениями) «снижает самооценку»49 функционера «общества потребления». Это достаточно выразительно свидетельствует о том, насколько далеко зашло господство «принципа удовольствия» в современном западном сознании.
Казалось бы, все это означало окончательную победу фрейдовского психоанализа. Как и мечтал Фрейд, по мере углубления и универсализации тенденций «общества потребления» на Западе не только традиционная религия, но и традиционная мораль утрачивала свое значение в качестве душевной терапии и руководства для индивидуального поведения: все эти функции брала на себя психология, и прежде всего фрейдистски ориентированная психология. Но эта победа оказалась пирровой, началом конца «классического» фрейдизма. Шла речь не о большем или меньшем «облегчении» души пациента, мало-помалу «освобождаемой» от «репрессий» пуританизма (буржуазно-протестантской «хозяйственной этики» вообще), а о том, чтобы примирить человека с «репрессиями», навязываемыми ему идеологией «общества потребления», его «принудительным гедонизмом» (по выражению Белла).
Ситуация, с которой имел дело Фрейд, буквально перевернулась с ног на голову: отныне проблема заключалась не в защите «угнетаемого» «принципа удовольствия» от «агрессии» со стороны «принципа реальности» (и вырастающего на нем «сверх-я»), а в отстаивании последнего, поскольку ему грозило полное порабощение, если не истребление. Для такой ситуации «классический фрейдизм» уже не годился. Психоаналитик Фрейд, доживи он до конца 50-х годов, уже ничем не мог бы помочь своему новому пациенту. Теперь импотенция невротиков, с которой так часто приходилось встречаться Фрейду-психоаналитику, возникала отнюдь не от избытка моральных «репрессий», а скорее от «морального вакуума», от почти полного отсутствия каких бы то ни было моральных «напряжений», во всяком случае в «гедонистической» сфере. В этой ситуации среди психоаналитиков 50—60-х годов становилась модной «терапия весельем», «воспитание оргазмом» и т. д. — то, что опрокидывало все теоретические построения Фрейда. Вот где таится источник нападок на Фрейда, характерных для «фрейдовского бума» 50—60-х годов (в отличие от бума 20-х годов) — бума, который точнее было бы назвать слево»-фрейдистским.
Теперь понятно, в чем заключается различие между «классическим» и «левым» фрейдизмом и чем, следовательно, отличается второй «фрейдовский бум» от первого как в социальном, так и в теоретическом отношении. Ясно, что «общество потребления» могло реализовывать свое основное устремление лишь за счет более или менее значительных компромиссов с государственно-монополистическим капитализмом, на почве которого оно возникло. Сколь бы далеко ни заходила идеология гипертрофированного потребительства, до каких бы нервных срывов ни доводила она своих наиболее доверчивых приверженцев, требуя от них новых и новых потребительских «оргазмов», «принцип удовольствия» не мог утвердиться в полном объеме, без ограничений. «Евнух» капиталистической промышленности, исподтишка подогревавший эту идеологию, финансируя соответствующую рекламу и даже теорию, хорошо сознавал, что этот принцип может реализовывать себя лишь в границах, поставленных «принципом производительности» и всем государственным аппаратом, стоящим на защите последнего, включая полицию и тюрьмы. Вот это-то обстоятельство и не устраивало «левых» фрейдистов, которым — как и всяким абстрактным идеологам — претило то логическое (да и социологическое) противоречие, на фоне которого осуществлялся «принцип удовольствия».
Перед лицом противоречия между «принципом производительности» и «принципом удовольствия», одинаково претендовавшими на «всего» человека, «левые» фрейдисты сделали безоговорочный вывод в пользу второго принципа. При этом они основывались на двух соображениях. Во-первых, в рамках фрейдовского психоанализа этот принцип как бы персонифицировал силы природы, к которой они питали неизъяснимую слабость, вполне, впрочем, понятную у жителей больших городов. Во вторых, «принцип удовольствия» долгое время оттеснялся на задний план буржуазной «хозяйственной этикой», что открывало возможность для вывода, согласно которому он являлся «антибуржуазным», и даже «социалистическим», «коммунистическим», во всяком случае «революционным».
Справедливость требует вспомнить, что это как раз те постулаты, апеллируя к которым А. Бретон и другие «левые» сюрреалисты ревизовали учение Фрейда, пытаясь заставить «либидо» крутить жернова «мировой революции». (Попытка эта получила поддержку Троцкого.) «Левые» фрейдисты 50—60-х годов, ссылаясь на А. Бретона как на своего предшественника50, не просто кокетничали «солидностью» своей традиции. Их реальная зависимость от сюрреалистической теории (и практики) была более глубокой, чем это представлялось им самим.
И «левые» фрейдисты 50—60-х годов, и «левые» сюрреалисты относились безоговорочно-положительно к «принципу удовольствия» и бескомпромиссно-отрицательно, деструктивно-разрушительно к «принципу реальности» и связанному с ним «сверх-я». (Речь идет о том содержании буржуазного сознания, которому в переводе на социологический язык соответствует «принцип производительности».) Более того, и первые и вторые одинаково оценивали оба принципа «классического фрейдизма»: один из них («принцип наслаждения») они считали изначально-природным, тогда как второй представлялся им чем-то вроде «буржуазного отчуждения», «искажения», «извращения» первого. Нетрудно представить, сколь далеко идущими должны быть изменения, производимые в лоне «классического фрейдизма» на основе подобной «переоценки ценностей». В каком-то смысле можно даже сказать, что такая «переоценка ценностей», сопровождающаяся переосмыслением основных фрейдовских интуиций, есть отказ от главного в учении Фрейда. От этого учения остается только своеобразный язык, выработанный автором психоанализа для разговора с широкой публикой на эротические (а вернее, сексуальные) темы. Превращение фрейдовского психоанализа в «язык» для выражения совершенно определенного идеологического устремления — скажем прямо, самого крайнего устремления «потребительского общества» — вот чем обязан современный Запад «левому» фрейдизму.
Важнейшая особенность «левого» фрейдизма (как, впрочем, и «левого» сюрреализма бретоновского толка) заключалась в том, что произведенная «переоценка ценностей» осуществлялась «лево»-фрейдистами с помощью апелляции к учению Маркса. И если одно из важнейших понятий фрейдовской «метапсихологии» — «принцип удовольствия»— толковалось в духе «классического» фрейдизма с характерным для него биологизмом, то второе из этих понятий— «принцип реальности» — трактовалось в «неомарксистском» ключе: в ключе гегельянизированного «западного марксизма». Таким образом, получалась некая эклектическая амальгама — «фрейдо-марксизм» или «марксо-фрейдизм», которая оказывалась критикой «слева» одновременно и Фрейда и Маркса. В таком виде «левый» фрейдизм выступал уже у его первых теоретических представителей — В. Райха и Э. Фромма. Второй из них, чьи работы появились в 30-х годах, в последующем придавал своим идеям более умеренное, «лево»либеральное направление, за что неизменно подвергался критике со стороны своих более экстремистски настроенных коллег по Франкфуртской школе, в особенности со стороны Г. Маркузе. Что касается В. Райха, то он был представителем самого крайнего варианта «марксофрейдизма», решительно и безоговорочно настаивающим на необходимости объединения политической революции с «сексуальной». (Впоследствии эти идеи нашли отражение в резолюциях и лозунгах «новых левых» экстремистов.)
Уже в ранних работах Фромма51 отчетливо выявились те приемы и способы, с помощью которых он подверг леворадикальной критике умеренного либерала Фрейда и которые вошли впоследствии в арсенал идеологии «потребительского общества». Фромм развенчал и отверг фрейдовское стремление начинать историю человечества с патриархата, ставя всю ее под знак деспотической власти «отца», представителем которого в душе каждого индивида оказывается морально-ригористическое «сверхя», базирующееся на «принципе реальности» и как бы увенчивающее этот принцип. Фромм выдвинул на первый план матриархат как первую, а главное, «естественную» форму бытия людей, в лоне которой они подчинялись якобы не «принципу реальности» и не «сверх-я», а «принципу удовольствия».
С точки зрения таким образом истолкованного «принципа удовольствия», который в своей природной «изначальности» и первобытной «естественности» представляется одновременно воплощением высших социальноэтических человеческих свойств, Фромм и обрушивается как на фрейдовское «сверх-я», так и на толкование Фрейдом «принципа реальности», считая, что в этом толковании проявляется непреодоленная «буржуазность» (и как стали говорить несколько позже, «конформизм») создателя психоанализа. Идее «матриархата» — в ее фроммовском толковании — было суждено большое будущее: взятая в сочетании с принципом «вседозволенности», она произвела впоследствии большое впечатление на идеологов «общества потребления», которые обнаружили склонность толковать это общество как возврат к все разрешающему «материнскому праву», разумеется «на новом витке» исторической спирали. «Матриархальная» модель человека, погруженного в лоно «коллективного бессознательного», где не может быть речи об этически ориентированном — «патриархальном» — «принципе индивидуации» (principium individuationis), а потому ничто не мешает предаваться самым экстравагантным наслаждениям, вполне отчетливо видна, например, у М. Маклюэна. Многое от этой модели можно встретить в рассуждениях Н. Брауна и Т. Розака.
Безотносительно к этому более позднему развитию фроммовских идей необходимо подчеркнуть их структурное значение для теоретического содержания последнего. В самых глубоких теоретических истоках «левого» фрейдизма отчетливо фиксируется некоторый «комплекс» представлений и умонастроений, в составе которого идея безграничного наслаждения сочетается с представлением о «безличности», «анонимности» человека, погруженного в темную стихию того, что марксизм определяет как ложную коллективность. Поскольку же эта последняя понималась как «истинная» («естественная», «природная» и т. д.) коллективность и даже противопоставлялась коллективности в ее Марксовом понимании, постольку «левые» фрейдисты с самого начала считали себя «подлинными» социалистами и коммунистами, даже более «подлинными», чем основоположники марксизма.
Именно этот «комплекс» воодушевлял впоследствии людей, ищущих «неурезанного», «ничем не ограниченного» наслаждения (= удовольствия, = потребления), давая им сознание своей «антибуржуазности», «революционности» и «коммунистичности»: ведь они «тоже» против «буржуазного индивидуализма» и даже против самого принципа индивидуальности, принципа личности и т. д. Таким способом идея «свободы», понятой как свобода ничем не ограниченного наслаждения, превращалась в апологию «казарменного коммунизма», исключающего личность. Крайности сошлись. Препятствием на пути первобытной уравниловки, с одной стороны, и стремления к «радикальным» (т. е. ничем не ограниченным) удовольствиям — с другой, оказалось одно и то же; индивидуальность, личность, этически ориентированное «я». Против него-то и выступили сперва теоретики «левого» фрейдизма, а затем бульварные идеологи «общества потребления», поднявшие на щит своих «теоретических предшественников».
Как видим, «левый» фрейдизм, взятый в аспекте его социального смысла и функции (т. е. точно так же, как сам он берет «классический» фрейдизм), вполне укладывается в марксистское понятие идеологии, как оно было разработано в работах Маркса и Энгельса, начиная с «Немецкой идеологии». На первом («утробном», так сказать) этапе своего развития — в 30—40-х годах — «левый» фрейдизм был теоретическим предвосхищением процессов, которым предстояло окончательно выкристаллизоваться лишь в 50—60-х годах в форме возникшего на базе государственно-монополистического капитализма «общества потребления». На втором этапе он вышел из теоретической скорлупы, обретя наконец социальную базу, вынесшую его на поверхность общественного сознания капиталистического Запада: ее составляли наиболее крайние и наиболее шумные круги движения «новых левых», одержимые идеей «сочетания» политической революции с «сексуальной». На исходе этого движения — к концу 60-х годов, когда стало очевидным, что «сексуально-революционные» устремления были простым инструментом утверждения в западном сознании, в культуре и «повседневной жизни» того принципа, который давно уже вызревал в лоне государственно-монополистического капитализма, — начался третий и последний этап истории «левого» фрейдизма.
На протяжении этого этапа, который продолжается и в настоящее время, становится все более и более очевидным, что «левый» фрейдизм сыграл роль своеобразного теоретического инструмента, с помощью которого в общественном сознании капиталистического Запада были утверждены понятия и представления, идеи и ассоциации, постулаты и «ходы мысли», которые соответствуют новому «соотношению сил» между «принципом производительности» и «принципом удовольствия». Учитывая «консервативный» характер этических традиций, господствующих в буржуазном сознании, нетрудно понять, что вышеупомянутые представления и ассоциации, апеллирующие к «принципу удовольствия», было трудно утвердить «мирным» и «эволюционным» путем. Нужен был «прорыв», тем более что время не ждало (и «евнух промышленности», которому явно мешали «пережитки» буржуазного пуританизма, обнаруживал признаки нетерпения). Этот «прорыв» и был совершен в области теории и «теоретической этики» «левым» фрейдизмом, а в сфере политической идеологии, «повседневной жизни» — «сексуальными революционерами» из числа «новых левых» нигилистов и экстремистов.
Но после того как это произошло, в «левом» фрейдизме, как и в движении «новых левых», вдохновлявшихся его лозунгами, уже не было необходимости. Стало совершенно очевидно: «Мавр сделал свое дело — мавр может уйти». Движение «новых левых» утратило свою реальную общественную функцию и было поглощено различными (в основном «контркультурными») ответвлениями «массовой культуры» Запада. Параллельно стал угасать интерес и к «левому» фрейдизму, который был теперь явно не способен сообщить «веселящейся единице» ничего нового. Тем более что безработица, инфляция, энергетический, экологический и другие кризисы делают «терапию веселья» не соответствующей современному состоянию государственно-монополистического капитализма.
43См., в частности, Давыдов Ю. Гедонистический мистицизм и дух «потребительского общества. — Теории, школы, концепции. Художественное произведение и личность. М., 1975.
44Bell D. The Cultural Contractions of Capitalism. N. Y., 1976.
45См. Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1923.
46Bell D. The Cultural Contraditions of Capitalism.
47Там же, с. 70.
48Теоретической формой осознания этой антиномии, раскалывавшей как общественное бытие капиталистического Запада, так и его идеологию и мораль, и стал «левый» фрейдизм Маркузе и Брауна, Фромма и Розака, который сам очень скоро стал модным идеологическим поветрием.
49Bell D. The Cultural Contractions of Capitalism, p. 71.
50Чаще других это делал Г. Маркузе.
51Речь идет о статьях, опубликованных в «Zeitschrift für Sozialforschung» (Fromm E. The Crisis of Psychoanalysis: Essays on Freud, Marx and Social Psychology. N. Y., 1970).
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 6573
Другие книги
- М. С. Беленький. Что такое Талмуд
- Иоханнес Рогалла фон Биберштайн. Миф о заговоре. Философы, масоны, евреи, либералы и социалисты в роли заговорщиков.
- Герберт Шиллер. Манипуляторы сознанием
- Л. Ануфриев. Религия и жизнь: вчера и сегодня
- под ред. В.Я. Гросула. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика
Редакция рекомендует
- Отмена лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" в декабре 1941 г.
- Россия и Болгария: между "войнами памяти" и поиском совместного прошлого
- Как преподают военную историю за рубежом?
- Рождественские постеры австралийской, британской, германской компартий
- Образ врага в советских исторических фильмах 1930-1940-х годов
- "Убей немца" в советской пропаганде